Великопостные статьи 2018 г.:
Апология безделья, или Против активности
Диалектика религиозной иллюзии
Христианская ортодоксия vs православное христианство
Монета, или Система богоубийства
Еще раз о мироносицах и атеизме
Хорошо, когда опаздываешь, немного замедлить шаг.
Андрей Синявский. “Мысли врасплох”
Великий пост — хорошее время, чтобы подумать, что такое христианство, и что такое быть христианином. Не самый ли простой ответ: “быть христианином — значит исполнять заповеди”? А что такое заповедь?
Заповедь
Понятие заповеди полностью ныне перевернуто: заповедь нечто запрещает, то есть ограничивает свободу? Наоборот, заповедь нечто запрещает, то есть поддерживает свободу. Заповеди появляются в контексте борьбы Бога и Фараона[1]. Израиль в египетском рабстве не имел заповедей, подчинялся Фараону. Свободный Израиль обретает заповеди. Мир сей — система обожествивших себя поработителей, противостоящая Богу-Освободителю. “Не убий” — заповедь, ограничивающая свободу убийц и очевидным образом поддерживающая свободу всего общества и его членов. Так и со всеми заповедями. Заповеди хранят свободу, обретенную в борьбе Бога с Фараоном. Заповеди есть заповеди свободы, ее хранения.
Первым при взгляде на Декалог бросается в глаза разнородность первых четырех и последующих шести заповедей. “Первые” ведь как бы не про “мораль”. “Не убий”, “не прелюбодействующий” и им подобные, нарушаем мы их или нет, кажутся простыми и ясными. Но “ничего не делай в субботу”, “ничего не изображай”? Какой в этом смысл? Как эти заповеди хранят свободу?
Я буду говорить только о Субботе, ставшей своего рода образчиком бессмыслицы и ритуализма, самой непонимаемой заповедью Декалога. И самой нарушаемой, если верить Томашу Седлачеку:
“Из десяти Божьих заповедей именно предписание субботнего отдыха является сегодня одним из самых нарушаемых. […] Согласно Торе, человек шесть дней должен преобразовывать мир, а седьмой день ему следует отдыхать. Угомонившись, он должен созерцать и пользоваться благами, созданными своими руками. Парадоксально, но это должно было стать наказом. Кажется, что человеку достаточно рекомендовать отдых, а ему (часто под угрозой смерти) запрещают трудиться [Исх 31:15: “…Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти…” ]. Видимо, в природе человека заложено что то, побуждающее его все время работать, — поэтому такое правило и должно было стать именно заповедью.”
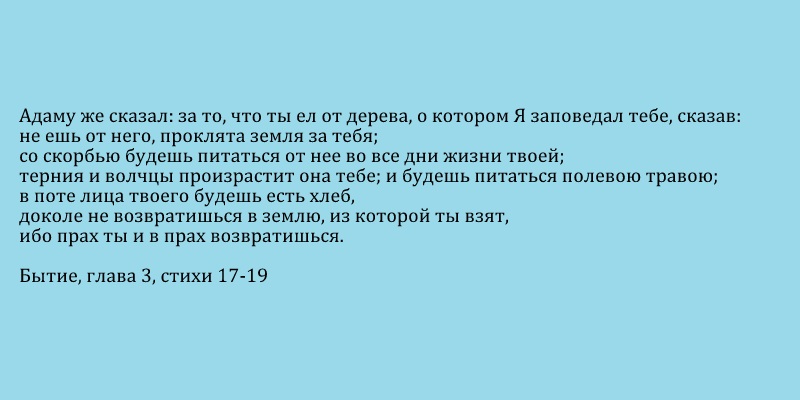
Примечательное замечание Седлачека про то, что активность надо запрещать под страхом смерти я еще обсужу, но сначала ответим на вопрос: как Суббота защищает Освобождение Израиля? Заповедь о Субботе — заповедь о времени. Тема времени в контексте борьбы Бога и Фараона, появляется здесь:
“И сказал им царь Египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ [мой] от дел его? ступайте [каждый из вас] на свою работу. И сказал фараон: вот, народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них то же урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте; они праздны, потому и кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему; дать им больше работы, чтоб они работали и не занимались пустыми речами” (Исх 5).
“Они праздны, потому и кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему” — власть, заметив, что в праздности своей народ вспомнил о Боге, увеличивает работу: “работать надо!”.
Иными словами: трудящиеся обратились к властям с неким требованием, на которую власти ответили усилением гнета. Власть хочет пожрать время людей “на работу”, “на пользу”, и, конечно, пользу для себя. Истинное предназначение времени, человеческое предназначение — “жертва Богу”. “Жертва Богу” — весьма “неэффективная” трата времени, как и всякая чисто человеческая “деятельность” (любовь, радость, дружба, искусство). Фараон изгоняет Бога из времени.
Социальные аспекты Субботы
Первый элементарный социальный смысл Субботы ясен: ныне он задействован как 8-часовой рабочий день, обязательные выходные и отпуска и прочие завоевания рабочего движения (за которые люди когда-то, совсем не так давно, платили жизнями). Самая непонятная заповедь становиться необыкновенно актуальной: Фараону всегда кажется, что люди держат “праздные речи” и неплохо бы им “дать больше работы”. Заповедь о Субботе напрямую освящает и вменяет борьбу за права рабочих[2]. Отдых — право, “гарантированное” Господом, “отвоеванное” Революцией Моисея: “и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний [и свято хранить его]”. Память о преодоленном рабстве и Суббота повязаны.
Социальные аспекты Субботы на этом не исчерпываются. Скажем, современный Фараон не гнушается трудом мигрантов, не гнушается предоставлять гнуснейшие условия для этого труда и гнуснейшую оплату для этого труда, не гнушается выставлять мигрантов “опасными”, хотя сам Фараон и создал ту Систему, где людям приходиться покидать свою родину и работать в ужасных условиях на чужбине (к слову сказать: Израиль в Египте — мигранты; страхи египтян — типичная ксенофобия (Исх 1:9-10). Но Писание не забывает мигрантов: “суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты… ни пришлец, который в жилищах твоих” (Ис 20:10). Нормальные условия труда мигрантов, их право на отдых напрямую вменяются заповедью о Субботе.
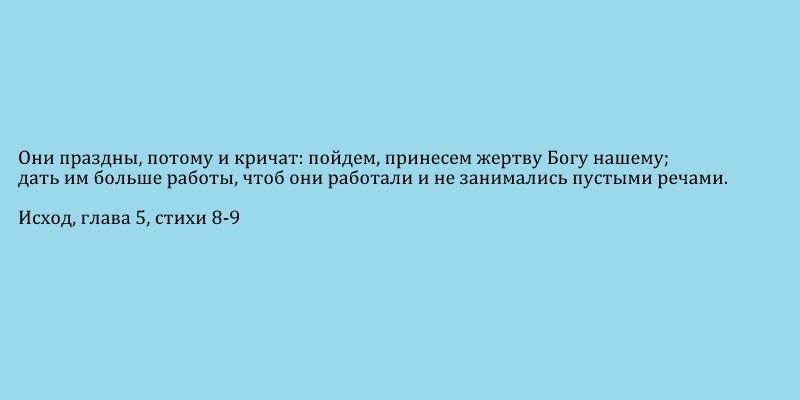
Власть эксплуатирует не только труд, но и землю. Но заповедь о Субботе, “пусть земля отдыхает каждый седьмой год, соблюдая субботу Господа” (Лев 25:2), напрямую вменяет “решение экологических проблем”, “заботу о окружающей среде”.
Мы не преувеличиваем “социальности” нашей заповеди. Скажем, урожай Субботнего года мыслится Писанием как “социальная помощь”: “чтобы питались убогие” (Исх 23:10–11). Важно, что это именно закон, а не “благотворительность”.
Субботний год бросает вызов средоточию современности, понятию долга. Долги надо было простить: “в седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа [Бога твоего]” (Втор 15:1-2) Прощать долги? Но ведь это “аморально”? (если речь идет, разумеется, не о банках и корпорациях, которым долги как раз легко прощаются — за счет “бюджетной экономии”, то есть кражи у народа). Опять же: в нашем чудном “закредитованном” мире есть ли заповедь актуальней?[3]
В Юбилейный год (семь субботних годовых циклов; Лев 25:8–17, 23–25) неожиданно оказывается, что “принцип частной собственности” “не священен”: “землю нельзя продавать навсегда, потому что земля Моя, а вы у Меня чужеземцы и поселенцы” (Лев 25:23) Интересно, что в глазах Господа все мы — мигранты. Также следует отпустить рабов на свободу (Лев 25:39–41).
Дело не в том, “законна” или “не законна” была приватизация, справедливы или не справедливы были условия кредита, дело в том, что Библия мудрее неолибералов и понимает, что экономическую систему надо перезагружать, иначе у вас образуется группка держателей всей собственности, всего капитала, и в итоге — всех людей, а большинство окажется на положении рабов. Другое дело, что экономика перезагрузится сама по себе — через “кризис” (мировую войну, например), но ведь этого можно и не дожидаться. Дело в том, что “собственности” нет, ибо все принадлежит Господу, то есть никому, то есть всем. Суббота, обнуляя счетчики, напоминает об этом.
Земля, рабы, долги — эти три реалии, затрагиваемые Субботой, есть не что иное, как три фактора производства: земля, труд, капитал.
Суббота — заповедь не только о том, что следует прервать активность, но еще и о том, что надо уничтожить все следы человеческой активности, метастазы социума (долги, рабство и прочее). Насколько в этом смысле мы соблюдаем четвертую заповедь?
Потерянный Рай
Одна из главных наших проблем — размежевание богословия с реальностью, особенно реальностью социальной. Мы показали социальную природу Субботы, но Суббота — Божья заповедь, и уже в силу этого мы находимся на богословском уровне, и здесь как раз хорошо видно, что реально “интересует” Господа: долги, земля, мигранты и так далее. Но что с богословием в строгом смысле? Суббота — “знамение между Мною и сынами Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился” (Ис 31:17).
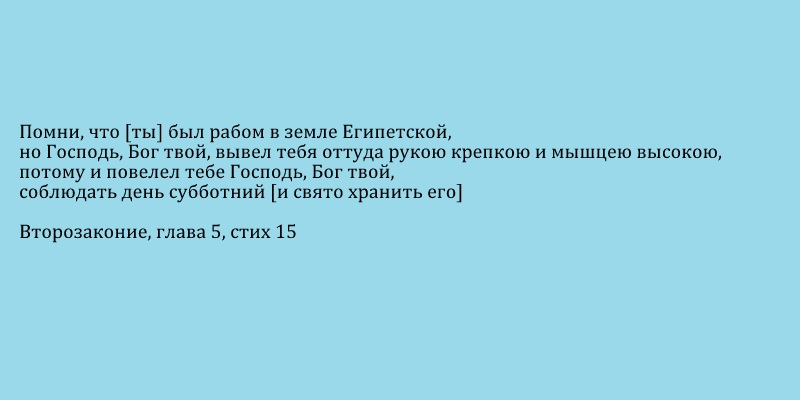
Заповедь о прекращении активности есть знак богообщения и знак, данный в контексте Творения. Грехопадением мы ввергнуты в смерть (отключены от бесконечного источника времени), грехопадением мы впали в проклятие труда (тратим время не на жизнь, а на ее поддержание). Мир, задуманный Богом, не знает труда и все время в Замысле — “свободное”.
Суббота есть память о рае, пространство богообщения и вытекающие отсюда конкретные социальные действия. Ибо все это про Бога: про то, как мы грехом потеряли Его и про то, что восстановить общение с Ним — творить правду, в том числе — “социальную”.
Ис 31:17 говорит о богоподобии человека в связи с временем и деятельностью. Человек после грехопадения работает — потерял богоподобие, но Суббота вменяет ему вспомнить это богоподобие. Бог не работает, Он творит — шесть дней, а на седьмой наслаждается творением. Суббота выводит нас из “рабочего времени” Фараона в “свободное” время творчества и наслаждения Бога.
Есть два времени: грешное время Фараона и праведное время Бога. Заповедь о Субботе воспрещает первое и вменяет второе: здесь борьба, не менее трудная, чем борьба мира и насилия (“не убий”), целомудрия и блуда (“не прелюбодействуй”).
В какой ритм жизни ты включен? В Божий? Или производственный? Нельзя служить двум господам.
Что, не работать теперь? Скажут: заповедь о Субботе имплицитно предполагает обязательность труда. А вот и нет. Один день — отдыхай, а значит шесть — работай? Заповедь о работе просто не нужна — без работы мы подохнем, а вот заповедь ничегонеделанья надо вменять под угрозой смерти (без работы — нас убьет мир, без отдыха — нас убьет Бог: видите, где фронт борьба Бога и мира сего?).
Нравственность труда не в самом труде, а в том, что безнравственно жить за счет чужого труда, безнравственно эксплуатировать другого. Не то чтобы Фараон и его аристократия “пахали” не покладая рук: “пашут” скорее на них. Эксплуатация есть ни что иное, как кража рабочего времени. Есть заповедь “не кради” и заповедь Субботы: заповеди труда нет, есть напоминание, что “в поте лица” — проклятье, следствие греха. Формула “труд ради труда” если и имеет смысл, то только как творчество.
Ролан Барт в книге “Как жить вместе” указывает, что “экономика” первоначального монашества была устроена так, как она была устроена, помимо прочего и из-за желания анахоретов исключить любую возможность эксплуатации человека человеком. Оно и понятно: мир есть система эксплуатации. Уйти из мира — уйти из этой системы. Вообще монашество как радикальный уход из мира есть радикальное субботствование: монахи “не делают ничего полезного” с точки зрения мира. С ними в свое время и боролись как с бездельниками. Но их безделье — главное, прекраснейшее, что есть у людей.
Мы видели только что, как Суббота работает с социальными проблемам — все они в конечном счете сводятся к отчуждению труда, осуществляемой Фараоном. Заповедь о Субботе отсылает к труду-творчеству Бога и Его покою после труда-творчества. Грехопадением мы выпали из Божьего творчества-покоя, творчество выпадает в рабство. Шесть дней Творения — не аналог труда, также как покой Бога после них — не аналог отдыха после труда. Время Творения, потерянное после грехопадения, актуализируется Субботой в противовес времени, навязываемому Фараоном. Творчество-и-праздник против труда-и-отдыха: Бог против Фараона.
Здесь главное не впадать в логику профанного-сакрального, уничтоженную в Боговоплощении. Суббота освящает все наше время. Как храм — не резервация “божественного”, которому не место в “мирской” жизни, напротив, храм — место, из которого мы должны нести в мир благодать, так и Суббота — не закуток для Бога, а освящает все наше время. Суббота — не заповедь о работе и отдыхе, она заповедь о празднике, благости и веселье, ибо именно таковы изначальные категории Творения, искаженные грехом. “Хорошо весьма” — сказал Господь на седьмой день Творения. Суббота — это напоминание, что, несмотря на всю грязь, мир в Замысле — прекрасен. И эту красоту надо хранить, не отдавать Фараону. Мир, задуманный Богом, — мир “свободного времени”.
Но опять и опять: творчество и наслаждение вменяются под страхом смерти: почему так трудно “освободить время”?
Свободное время
Суббота — заповедь о времени. Время — это то, “где”, “как”, и “в чем” живет человек; субстанция и среда человеческой жизни. Время — главная ценность и основа всех других ценностей (трудовая теория стоимости именно об этом). Вот его-то и охраняет Суббота (мы говорили о социальной актуальности Субботы, ее богословии, а сейчас начали говорить о ее фундаментальной экзистенциальной значимости).
Надо выйти из рабства мира сего в свободу Бога. Суббота и есть такой исход к Богу, опыт такой свободы. Шесть дней мы задействованы Системой, а в седьмой — должны из нее выйти, “ничего не делать”. Время, мы сказали — субстанция человеческой жизни, и заповедь о Субботе решает вопрос “как жить?”, “зачем жить?”, иными словами — “как провести время?”. Разве это ответ — “надо что-то делать”? В том-то и дело, что заповедь предписывает ничего не делать. Безделье!
Фараон крадет время, предназначенное в “жертву Богу”. То, что мы сейчас называем “свободным временем”, не есть время свободы, но есть время потребления. Ибо Фараон стал более изобретательным со времен Исхода. Теперь мы должны не только производить товары в “рабочее время”, но и потреблять их в “свободное”: от собственно шопинга до прорвы услуг индустрии развлечений. Таким образом, все наше время пожрано Системой.
Мы сравнивали Субботу с храмом. Стремление сделать храм “ближе”, “доступнее” — плод логики промышленности досуга, логики потребления — прямо противоположное смыслу храма: выходу из Системы. В храм никто не ходит, потому что в ТЦ “интереснее”. Но храм — не ТЦ. Храм — место приобщения к немирскому (во всяком случае, должен быть таким). Храм — место, где я наконец могу не быть ни в ТЦ, ни на работе. Место вне производства-потребления (или опять — должно таким быть). Храм кажется супермаркетом сейчас, потому что стоит в мире супермаркетов. Но, конечно, он свои нахождением здесь отрицает этот мир.
В современности потребление не менее значимая функция, чем производство. Работая или “отдыхая” — мы проявляем некую “активность”, поддерживающую Систему. Мы еще в Египте. Мы служим Фараону и “отдыхая”[4] [5].
“Активность”, “креативность”, “позитивность” [6] — и не забывая, что мы все умрем, вместе со “смертью”, вот вам все четыре всадника Апокалипсиса. Работай и потребляй! — работай и потребляй изобретательно! — работай и потребляй с радостью!
Система побуждает меня к активности — любой, это она называет свободой. Теоретически я могу устроиться на любую работу и потребить любой досуг (что конечно не так, но неудачливость мою объяснят тем, что я не угодил богам Рынка — оно, наверное, и так, но не много ли неудачников при столь справедливой невидимой руке Рынка?). Подлинная свобода — остаться вне активности, навязываемой Системой. Например, нас зовут участвовать в электоральном спектакле, “реализовать свободу”, “выбрав” среди пунктов, любезно выбранных до этого Системой. Системе все равно за кого ты голосуешь, главное — участвовать в электоральном спектакле. Как в романе Сарамаго “Прозрение”: подлинный протест против электорального спектакля — в один прекрасный день не прийти на избирательные участки, и Система рухнет[7]. Системе потребна любая активность, а вот что делать с неучастием в ней, она не знает (что делать с монахом?). Система сожрет любую активность: но как она сожрет ничегонеделанье?
Суббота охраняет нас от страшного, ложного и отравляющего ощущения, что ценность человека в выполняемой им функции, в полезности для Системы, что в человеке самом по себе нет ценности. Что мы живем для “чего-то” и кто-то нам подтвердит что “что-то” выполнено. А мы ведь просто живем. Передавая свой смысл Системе, мы, осмысляя ее, обессмысливаем себя. Как будто у всего есть цена, как будто кто-то нас оценивает: труднее всего ничего не делать, труднее всего выйти их этой игры. Но выйти предписывает сам Господь!
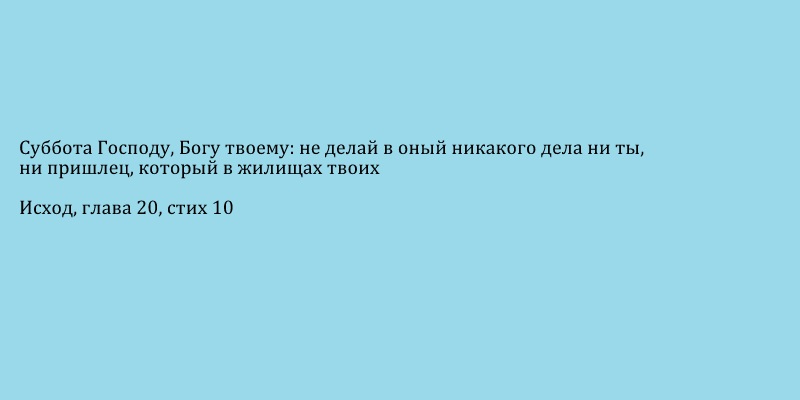
Все что я здесь пытаюсь сказать — всего-навсего вариации на старые добрые христианские призывы против “мирской суеты”. В этой связи надо сказать о вечном непонимании христианского мироотрицания. Ирония в том, что христианство отрицает мир сей в силу бесконечной радости Творения. И наоборот: мирская активность, якобы принимающая мир, рождается как раз таки из отвращения к миру в попытке избежать убогости мира[8]. Заметьте: если вы счастливы, зачем вам что-то делать, кроме как предаваться счастью? Характерна мода на цинизм, усталые позы, “бунт”, “протест”, “ничего не изменить”. Поздний капитализм отвратителен, и отвращение к нему испытывают все. Но капитализму удается из отвращения к себе создать идеологию: быть недовольным становится модным, “надо” быть недовольным, производятся культурная продукция недовольства, неплохо продающаяся. Само недовольство Рынком становится товаром на рынке. Так же и здесь (и вообще это одно и то же, взятое в первом случае социально, во втором — экзистенциально): человек, испытывая отвращение к Системе, пытаясь отвращение превозмочь, предается “активности”, которая подпитывает Систему (“досуг”, “хобби”, “увлечения”, “интересы” и прочее потребление — а это Системе и нужно). С выборами и с рынком и со всем прочем: человек “свободен”, но эту свободу некуда деть, она работает только как функция Системы. Мы “полностью свободны”, а Систему изменить не можем, что вызывает недовольство, которое мы, конечно, вправе “свободно выразить”… (политику меняет не избиратель, экономику — не потребитель и трудящийся; и избиратель и потребитель и трудящийся — функции политики и экономики, их винтики).
“Скажи жизни “да”, “надо попробовать все”, — лозунги такой свободы: наверное, и педофилию, убийство или прожить 50 лет отшельником, посвятить жизнь прокаженным? Рынок: “все” значит то узкое, что предлагают. Обманка рекламы, витрины и бюллетеня: ты сам выбираешь, но только то, что предложат. Часто бывает труднее — не всегда ли? — сказать “нет”.
Христиане не отрицают “мир”, они ради “мира” отрицают “мир сей”. Алкоголик несчастлив и пьет, более несчастлив из-за алкоголизма и топит свое несчастье в алкоголе: развивается здесь только алкоголизм, алкоголик же умирает. Ненавидеть алкоголизм — не значит ненавидеть алкоголика. Это значит — любить алкоголика. Можно просто бросить пить и просто выйти из системы. “Просто”, разумеется, логически, на деле — адски трудно.
В данное мгновение человек испытывает недовольство, а значит, “надо что-то делать”, проявлять активность. Но активность есть активность внутри Системы, а следовательно, недовольство никуда не уйдет, подпитывая новую активность, которая будет подпитывать Систему и далее по кругу.
Отсюда жажда нового. Культ нового есть просто идеология рынка: новые товары должны продаваться, а значит, предыдущие товары — “устаревать”. Ритм нашей жизни задается рынком: жажда “новых впечатлений”, “интересный experience” и прочее есть выполнение приказа “потребляй!”. Возвышенные понятия “новое”, “новизна” есть производные от банальной “новинки”. Одноразовое замещает вечное. Вечное не нужно, его не продашь. Оно не “устаревает”. Вечное и рынок несовместны.
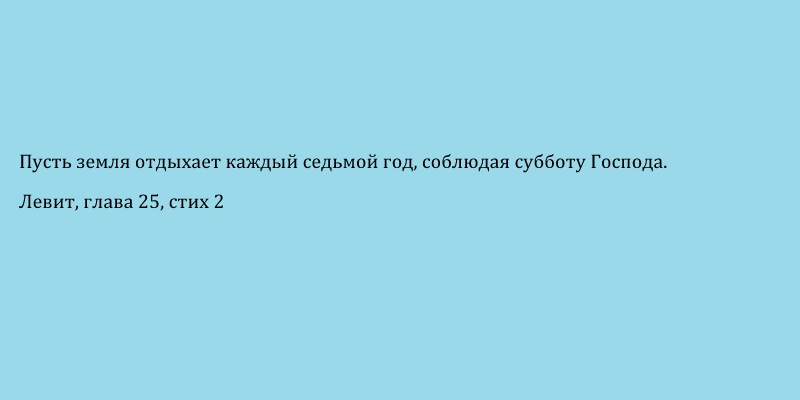
На уровне философской антропологии все это разработал Хайдеггер в теме скуки[9]. Скука ведь самое страшное. Ее-то и развеивают “развлечения”. Скука — знак человеческого в человеке. Животные не скучают, полностью погруженные в природу. Человек скучает, ибо он предназначен к неотмирности. Животное знает состояние активности и состояние отдыха, потребности и ее исполнения: тот же ритм, который навязывает нам Система (работа — досуг). Человек определен тем, что способен к третьему состоянию, к субботствованию. По Хайдеггеру, скука — настроение, открывающее человека бытию. В скуке человеку “нечего делать”, в скуке человек задается главными вопросами: “а что вообще мне надо от жизни? Кто я? Чего следует желать?”. Человек скучает, ибо свободен: у него есть свободное время, которое надо сбыть, и непонятно куда. Только человек может “ничего не делать” будучи свободен от программ[10] природы, выброшенный в ничто своей свободы. В скуке мы способны признать принципиальную неудовлетворимость человеческого желания: мы хотим того, чего нет; только в Боге обретем покой[11].
Активность есть избегание скуки, то есть скука — топливо активности. Тем самым скука в активности не убивается, а обретает структурную роль (и поэтому всем вокруг так скучно при всей активности). Подлинно избавиться от скуки — значит в нее погрузиться, поняв, что она — просвет, впускающий человека в неотмирное. В скуке человек встречается сам с собой. Но если с собой так страшно скучно, то что же с нами не так? “Надо чем-то занять себя” — то есть сбежать от себя, встроиться в Систему.
Выбравшись из природы, человек, теряя богоподобие, впадет в природообразную нечеловекоразмерную Систему, со своими жесткими законами, инстинктами, подкреплениями и пр. “Спешка”, на которую так многие жалуются — но и наслаждаются — есть скорость Системы, но не человека. Спешка: на бешеной скорости ехать в машине навстречу катастрофе.
Исход из Системы
Мир сей хочет моей активности. Я обязан что-то делать[12], говорить, иметь свое мнение. А я никогда не понимал правило “надо иметь свое мнение” — зачем? Можно мне истину, а не мое или чье бы то ни было еще мнение? Просто жить, радоваться нельзя. У христиан “просто” радость. Здесь главное – радость эта открылась Церкви. Церковь — пространство этой радости: ее календарь суббот и воскресений, ее праздники, когда запрещено работать. Как в ней живём, в какой мере. Марфа и Мария: Бог за Марию. Женщина, разбивающая сосуд с миром, — бесцельно, радостно, “просто так”, и “активность” Иуды (Иуда предает Христа после разбиения сосуда, разозлившись на бесцельность и глупость этого проявления радости и любви). Иуда деловит, а Бог, хоть и Творец, — совсем не деловит. Чудо в Кане Галилейской: хорошо из воды вино на свадьбе: не “нужно”, но хорошо. Бог безрассудно щедр. Мир же хочет, чтобы я был рассудительным, занял какое-нибудь место, определился, выбрал.
Мы не знаем, что нам делать, как жить “правильно”. За секрет “правильности” мы дадим что угодно. Обычно просто берём что попадётся. Страшное подозрение, что живём “неправильно”, глубокий страх этого. Чтобы скрыть, забыть его – беспрестанный активизм[13], постоянный шум, поиск подтверждений. Надо застолбить место в мире. Быть задействованным Системой — вот счастье. Быть одному — вот ужас: марионетка, плачущая по своим ниточкам. “Свободное время” вызывает панику.
Великая пустота свободы провоцирует тьму инструкций (всевмещающая пустота свободы способная вместить все бытие пугает и мы забрасываем ее своим мусором). Тишина мира провоцирует человеческий шум. Мы постоянно сюда соскальзываем, “рушимся”. Свобода невыносима. Простор невыносим. Ужас в том, что мы правда можем делать все что угодно. Что значит нельзя? Я прямо сейчас могу убить. Свобода всегда здесь. Главная забота: ликвидировать свободу. Но это решение само уже всегда в свободе — герменевтический круг (Хайдеггер: надо не выйти, а правильно войти в герменевтический круг).
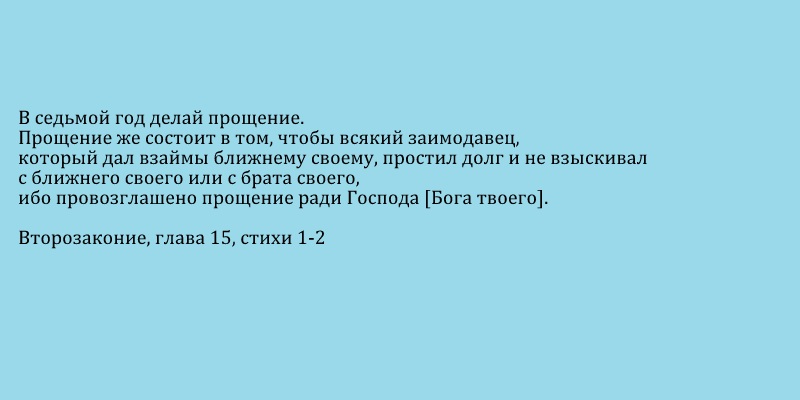
Что-то сделал – расскажи, напиши, сфоткай, а то ведь пропадёт втуне (удивительная манера фотографировать(ся) в любой ситуации). Неспособность радоваться одному. Только чтобы все знали. Надо задокументировать свою активность (“смотрите, я жив!” — кому мы посылаем эти отчеты? Фараону?).
Жизни нет – её симулируют, планируют – вот на работу устроюсь, книгу напишу, в отпуск съезжу. Вообще надо веселиться, быть активным, интересоваться, быть интересным (это обязательно), интересно жить (как-нибудь специально интересно), делать что-то, вообще чего-нибудь. Жизнь откладывается в планы “интересной жизни”, прожигается в её имитации. Но мир полнится радостью. Гулкая тишина радости. Её не слышно из-за шума. Строить планы, цели, “добиваться” чего-то – какая очевидная нехватка бытия. Как будто не для радости живём. А радость вот она, здесь. Активность не позволяет видеть реальность, не позволяет ей быть для нас. Как иначе, как услышать кого-то, если беспрерывно болтаешь, комментишь, что-то постоянно делаешь.
Остановиться, замолчать, посмотреть и увидеть что-то перед глазами, увидеть, что оно прекрасно, — это нет. Мы где угодно, только не здесь, не сейчас. А бытие всегда только вот тут вот. Литература-кино-СМИ-идеологии-
Все чувствуют (хотят), что должна быть какая-то жизнь, вот её нет, надо чем-то заполнить — и заполняют чем угодно: от собирания марок до благотворительности. Главное — погрузиться с головой, чтобы не заметить пустоту, которую в безумии хочешь заполнить марками, или французским кино, или лыжами, или работой, или фашизмом, или антифашизмом или защитой животных, или йогой. “Занятие” замещают смысл: “Я нужен. Я чем-то занят”. Я никому не нужен: какая радостная освобождающая весть! Значит, можно просто легко весело жить, любить. Просто, не потому что должен. С чистым сердцем, в сознании подарка мира[14].
Зрелище людей, “которым не хватает времени”: решающих кроссворды, смотрящих сериалы сезонами, сидящими в барах часами, бесконечно болтающих, бесконечно тискающих смартфоны. “Чем бы заняться”. Времени много на самом деле, слишком много, надо его потратить, прожечь[15]. Необходимость заполнения времени. Мы свободны во всем, кроме одного: время дано, его надо потратить. Надо избавиться от свободного времени. Спрятаться от пустоты. Вот марки собирать, например.
Зато когда спросят, чем занимаешься, чем увлекаешься (кто ты, не пуст ли ты), всегда можно ответить: вот марки собираю, вот кто я, я жив. Сидеть спиной к Богу и лепить идола. Потом раболепствовать перед идолом, потом убивать ради идола. Надо встать и повернуться просто.
Страшно, что и в Церкви так. Кем бы мне быть, чем бы заниматься, как правильно жить. Вот буду в Церкви. Буду молиться, на службу ходить. Жизнь устаканиться, место застолбил, всё хорошо — вот моё место, вот кто я. Потом либерально критиковать или быть традиционалистом. Надо ведь своё мнение иметь. Защищать основы, реформировать. На шествия ходить, “людям помогать”. “Людям помогать” — тоже хобби, тоже “занятие”. А святой просто здесь. Помогает, но по любви, молится — Богу, причащается — чтобы быть с Ним. Святой не активен, он живой. Не “ради”, а “так”. Монах понимает это, поэтому уходит — “просто жить”, “просто” молиться. Христиане не принимают мир и не отвергают его, просто они слишком счастливы, чтобы даже замечать его. Пасхальная победа всё изменила, дала свет, чтобы видеть благость мира.
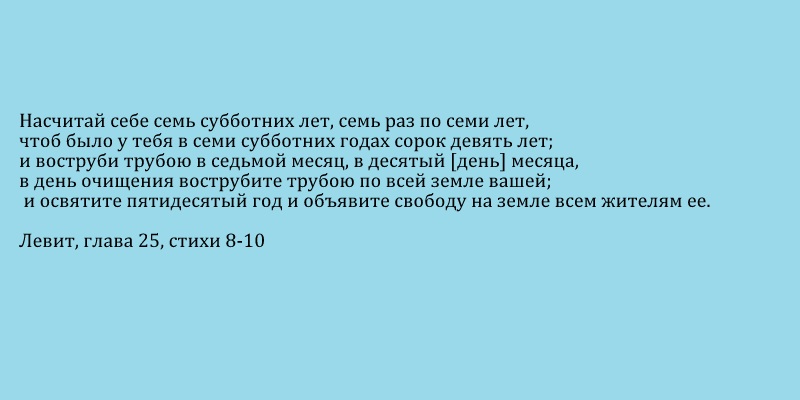
Освобождающий вопрос о смысле, раскрывающий бессмыслицу. Люди боятся потерять почву, поняв, насколько все нелепо, а ведь это освобождает, тогда только и можно жить действительно свободно, легко. Чудовищная зависимость от мнений других, норм, проторенных путей, мнимых очевидностей. Постоянный страх. Притом что их просто можно игнорировать. “Надо что-то делать” — а вот не надо, так только кажется. Все исходно совершается в свободе, и её нельзя потерять по определению. Все легко. “А чем ты увлекаешься, хочешь куда-нибудь съездить, поучаствовать блаблабла” — да нет, не хочу. Свобода, диктата нет (диктуешь ты сам, изнутри — да, повторяя приказ мира, но ты сам, мог бы не слушать приказ, не повторять его). Люди боятся проиграть игру, в которой изначально нет смысла и к которой по сути никто не принуждает. А ведь можно делать все что угодно. Немедленно выйти из игры. Большинство конфликтов решаются просто пониманием, что они — чушь. Сводящая с ума инерция склоки, драки: надо просто уйти и все. Это ничего не стоит и выйти можно “с любого места”, сразу и наконец просто жить. Правила игры: можно просто перевернуть доску: ни выигрывать, ни проигрывать не надо, не надо играть вообще. “Зачем мы живем”: да уж явно не для того чтобы какая-то структура, которая не мы, жила хорошо, а мы на нее тратились. Работа, партия, семья-вне-любви, церковь-как-организация и прочее; какой же невероятный невместимый бред потратить свою жизнь на что-то из этого: “я хорошо продаю ручки”, дело ведь даже не в том, что мы из необходимости работаем — это понятно, но надо ведь еще радоваться, гордиться, придавать значение.
Исходить надо из того, что мы не знаем, есть ли смысл, из возможности, что смысла нет. Тогда, конечно, при единственности и невозвратности нашей жизни надо жить для “удовольствия” (слова подводят). Это так и есть с необходимостью, если Христос не воскрес (“если Христос не воскрес, буду есть и пить” (1 Кор 15). В любом случае прав или нигилизм, или христианство, одинаково абсолютно обессмысливающие все, что в мире. И опять же: люди этого боятся, возможно, потому, что много вложили в дела мира или из-за истерических скорых решений “вопроса смысла”, выразимся так. Но ведь это знание — знание бессмыслицы всего — освобождает. Пари Паскаля наоборот: и в нем все выигрывают. Потому что если Бог есть — то мир надо отбросить, а если нет, то мы все подохнем и смысла нет, то опять же мир надо отбросить, чтобы не тратить наше время отведенное нам без всякого смысла. Наше чудовищное рабство у мира. Или ничто или Христос — в любом случае не мирское: и это головокружительно радостная новость. Но христианство всегда и было лучшим выражением нигилизма, панка (если не их источником)[16]. Выйти из мира: эсхатология.
Времени больше не будет
Мы наметили социальные, богословские и экзистенциальные аспекты Субботы. Все они сливаются в эсхатологии: в Конце этого мира, в остановке (субботе) времени.
Суббота есть заповедь о ожидании Грядущего Царства: “И если вы послушаете Меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нош воротами сего города в день субботний и чтобы святить субботу, не занимаясь в этот день никакою работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, Иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно. И будут приходить из городов Иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины и с гор и с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаете Меня в том, чтобы святить день субботний и не носить нош, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет” (Иер 17:19–27). Соблюдение Субботы, прекращение активности освобождает место для пришествия Царства, а его несоблюдение ведет в пожирающий огонь.
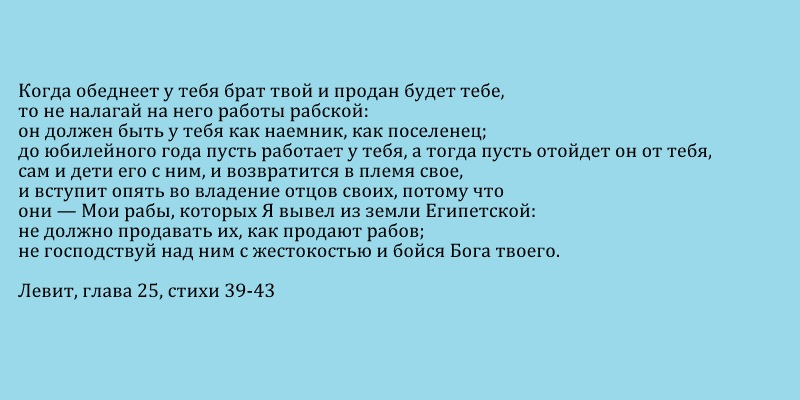
Суббота напоминает и предписывает то, ради чего мы созданы: для собраний, братства и дружества, для жертв, для чтения, для дел любви (Лев 23:3, Лев 24:8; 1 Пар 9:32, 1 Кор 16:2). Вот чем нужно “заниматься”, а не прожигать свое время на жертвенниках Системы. Но на это времени не хватает, Система затребует все наше время себе — поэтому для сохранения человеческого в человеке требуется заповедь остановки под страхом смерти.
Суббота — это прежде всего праздник, а праздник — коллективная, совместная радость. Евхаристия — благодарение, Литургия — общее дело. Главный мессианский символ — брачный пир, на котором не работают, а веселятся. Время Церкви организовано праздниками, время мира — ритмами производства. Как характерно нынешнее размывание, гомогенизация времени, нынешняя нелюбовь к праздникам (“зачем?”, “какой смысл?”, “новогодняя депрессия”!). Действительно так трудно просто веселиться и просто ничего не делать, труднее ничего нет! Напомним, что праздник вменяется заповедью под страхом смерти — очевидно, Библия считает, что здесь есть нечто фундаментально важное. Праздник разбивает время, делает его разным и цветным, праздник коллективен: от дел и разъединенности мира к праздности и совместности Царства. Праздник есть остановка войны всех против всех. Ритмы же производства рождают одномерность и одиночество. Одинаковые одиночки, сидящие в одинаковых квартирах за одинаковыми компьютерами или гуляющие в одинаковых ТЦ: конвейер с одинаковой скоростью (одинаковым “временем”), производящий одинаковые товары.
Мир порабощает человека в систему активности; Господь, разрушая мир, освобождает нас в эсхатологический — окончательный, совершенный — покой (Евр 4:1–11, Откр 14:13). Как мы видели, Суббота освобождает людей, их долги и Божью землю из оборота Системы: придет время и Система будет полностью повержена. Господь — за человека и против мира: “Суббота для человека, а не человек для субботы“. Заповедь о Субботе ко времени Христа поменяла свой смысл на противоположный, из хранения свободы в “правило” — одно из правил Системы. Господь, “нарушая Субботу”, как говорили религиозные деятели Его времени, на самом деле восстанавливает ее смысл: в Субботу Он исцеляет, воскрешает – возвращает к бытию, к “хорошо весьма”. Так и сейчас есть соблазн встроиться в “церковную” систему.
Чтобы дать Мессии войти, нужно остановиться. Остановиться делать зло, остановиться участвовать в мирской активности. Просто остановиться: дать место Радости.
Какой бы ответ ни прозвучал на “зачем жить?”, “ради чего жить?” он будет порочен, ибо сам вопрос порочен. Мы живем не “ради чего”. Мы просто живем. Мир создан без цели, Богу не нужен мир. Он его создал по любви, потому что “хорошо весьма”. Там, где есть цель, — нет радости, ибо, делая что-то в тех или иных целях, мы откладываем самих себя в будущее. У бессмертных нет целей, ибо если бы они и были, они в бесконечности бессмертия уже достигнуты (а как жить бесцельно? — “просто”!). Или как писал Синявский: “у Цели нет цели”.
В Грядущем Царстве не будет целей [17], ибо само Царство — уже вся радость. Опыт святого ничегонеделанья Субботы — опыт Царства [18]. Что делать? Оглянитесь вокруг: ведь всю вот эту гнусность кто-то сделал (спойлер: мы сами и сделали). В покаянии, помимо прочего, есть момент озарения: “вот этого всего” можно не делать, и не нужно делать, можно уйти. Надо остановиться: субботствовать. У реки, веток, у птиц, которые не трудятся, нет никакой цели, они просто прекрасны. Конечно, и их можно “попользовать” и убить их красоту.“Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?” — заповедует нам беспечность Христос. И в эстетическом ключе: “Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них”. Главное — Царство, быть как птицы и лилии, все прочее — приложится.
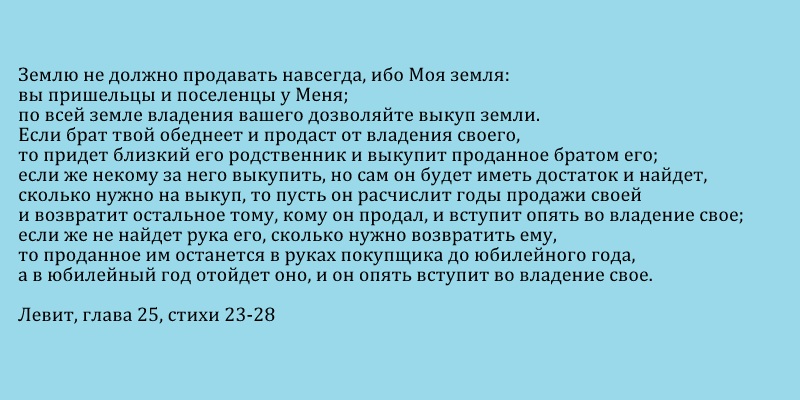
Время Фараона и время Бога в философии тематизированы как кайрос и хронос. Манусакис в “Богословской эстетике”, рассуждая об этих двух модусах времени, указывает, что кайрос — эсхатологическое время “вдруг”, “во мгновение ока”. Эсхатологическое время есть время мгновенной полноты бытия, мирское время — череда моментов упускания, отсрочивания бытия. Разумеется, современный Фараон выдает свое время (украденное у нас) за кайрос: получи полноту бытия на “интересной работе”, или “активном отдыхе”, в “новинке”. Поэтому так важна остановка механизмов, дарящая свободный взгляд на Систему из вне ее: перестав пользовать мы понимаем, что пользуют нас. Суббота есть остановка времени-хронос и запуск времени-кайрос[19]. Суббота — не коррелят к будням, а радостное их превозмогание.
Бесцельное существование — существование эстетическое, творческое (относящееся ко времени Творца и его радости Своим Творением). Произведение останавливает свой предмет в вечности: изображение есть суббота изображаемого[20]. Блаженная остановка: остановленное мгновение, показывающее свою красоту. Кто-то удачно сказал, что произведение искусства есть взгляд на вещи из будущего, из утопии, то есть искусство — эсхатологическое видение реальности. Каждая вещь — блага и прекрасна, будучи созданной Богом и предстоящая перед Ним; все вещи — плохи, если вставлены в систему Фараона, оторваны от Бога (человек как человек и человек как винтик). Сам человек, сама вещь, остановленные в искусстве, в Субботе, в Спасении, в Конце, сами вещи вне связи с чем бы то ни было, не встроенные в Систему. Произведение есть вещь отдельная, обрамленная рамкой, началом-концом, вещь в Субботе. Искусство вырывает вещь из контекста (“мира”), из системы других вещей, “останавливает” ее в вечности, спасает ее. Так и Суббота должна сделать с человеком. Остановиться, замереть, застыть перед красотой. Все красивое — бесцельно, не нужно. Не эффективно. Суббота есть время бесцельной, чисто художнической, творческой, праздничной радости[21]. Радости Конца.
Социальные аспекты Субботы охраняют нас от внешней встроенности в Систему и уничтожают метастазы Системы. Экзистенциальные аспекты Субботы делают то же самое с внутренней стороны. Эсхатологические аспекты Субботы обещают полное Освобождение.
Премудрость Божья, Художница всего, веселилась и танцевала перед Богом: вот что действительно разумно. Блаженны хранящие пути Ее (Притчи, глава 8).
[1] Об этой борьбе я подробно писал в “Революции Моисея”.
[2] В январе 2018 г. впервые в современной истории России был запрещен профсоюз. Запрещен за “сбор подписей с целью изменения действующего законодательства” — то есть за борьбу трудящихся за изменение Трудового кодекса!
[3] “Мне кажется, что нам давно необходимо что-то вроде отпущения грехов в библейском духе, которое затронет как международные долги, так и потребительские. Это будет благотворно не только потому, что облегчит страдания множества людей, но и потому, что напомнит нам, что деньги не священны, что нравственность не основана на выплате долгов, что все это лишь человеческие установления и что если демократия что-то и означает, то в первую очередь способность все устроить по-другому. Показательно, на мой взгляд, что со времен Хаммурапи великие империи почти всегда воздерживались от политики такого рода”. — Гребер, «Долг».
[4] О принудительности “отдыха”, общественной обязательности “досуга” прекрасно писал Набоков в рассказе “Облако, озеро, башня”. Василий Иванович во время “увеселительной поездки” обнаружил дом (“из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья”), где он решил остаться навсегда, и не то что прогулку, но и свою прежнюю жизнь оставить (решил выйти из мира). Его попутчики “настояли” на продолжении “увеселительной поездки”.
[5] “Мощная восходящая фаза третьей длинной волны (1896–1945) выражалась, прежде всего, в расширении нового потребительского рынка, в который вовлекались нижние слои среднего класса и квалифицированные рабочие. Досуг, главный нерыночный вид деятельности XIX века, начал коммерциализироваться”, — Мейсон, “Посткапитализм”.
“Повсюду и вопреки фиктивной свободе досуга существует логическая невозможность “свободного” времени, на деле можно иметь только принудительное время. Время потребления является временем производства. Оно является им в той мере, в какой оно всегда представляет только “неопределенное” отклонение в цикле производства. Но скажем еще раз: эта функциональная дополнительность (различно поделенная между общественными классами) не является его сущностным определением. Досуг принудителен в той мере, в какой позади его видимой необоснованности он верно воспроизводит все умственные и практические принуждения, каковые являются принуждениями производительного времени и порабощенной повседневности.
Сегодня средний индивид через каникулы и свободное время требует не “свободы самоосуществления” (В качестве кого? Какую скрытую сущность собираются показать?), а прежде всего демонстрации бесполезности своего времени как излишнего капитала, как богатства. Вообще время досуга, как время потребления, становится важнейшим и ярко выраженным общественным временем, производящим ценность, показателем не экономического выживания, а общественного спасения.
Видно, на чем основывается в конечном счете “свобода” свободного времени. Нужно сблизить ее со “свободой” труда и “свободой” потребления. Как нужно, чтобы труд был “освобожден” в качестве рабочей силы и мог приобрести экономическую меновую стоимость; как нужно, чтобы потребитель “освободился” в качестве такового, то есть получил (формально) свободу выбирать и устанавливать предпочтения, в результате чего могла возникнуть система потребления, так же нужно, чтобы время было “освобождено”, то есть было свободно от своих символических, ритуальных смыслов”. — Бодрийяр, “Общество потребеления”
[6] “Я ведь каждый раз радуюсь, когда гляжу на твою молодость, красоту и силу, а потом слышу от тебя, что у тебя совсем нет энергии! Наша эпоха и так насквозь пропитана активностью. Она не хочет больше мыслей, а хочет видеть только дела. Корень этой ужасной активности в том, что людям нечего делать”. — Музиль, “Человек без свойств”.
[7] “Угроза наших дней — не пассивность, но псевдоактивность, требование “быть активным”, “участвовать”, прикрывать Ничтожество происходящего. Люди постоянно во что-то вмешиваются, “что-то делают”, ученые принимают участие в бессмысленных дебатах и т. д. По-настоящему сложно отступить назад, отстраниться. Власть часто предпочитает диалог, участие, даже “критическое”, молчанию — ей бы только вовлечь нас в “диалог”, удостовериться, что наше зловещее молчание нарушено. И потому воздержание граждан от голосования есть подлинно политическое действие: оно властно ставит нас лицом к лицу с бессодержательностью современных демократий”. — Жижек, “О насилии”.
[8] В проклятии мира обвинял христианство Ницше. Интересно, что в своей философии Вечного Возвращения он следует именно глубинной христианской логике. Ницще сам проклинал выродившийся современный мир (в лице, например, современного ему христианства, имея дело на самом деле с гуманизмом) во имя бытия, ровно так же, как это делают христиане, благословляя Божье Творение в целом и проклиная грех. Ницще в конце концов благословляет и страдание как часть бытия, ровно так же как это делают и христиане: “Бог дал, Бог взял”, “за все благодарите”. Вот Ницще проклинающий, Ницше “против мира сего”: “Ах, человек вечно возвращается! Маленький человек вечно возвращается! … Слишком мал самый большой! — Это было отвращение мое к человеку! А вечное возвращение даже самого маленького человека! — Это было неприязнью моей ко всякому существованию!”. Вот Ницще благословляющий, Ницще “за мир Божий”: “Утверждали ли вы когда-либо радость? О друзья мои, тогда утверждали вы также и всякую скорбь. Всё сцеплено, всё спутано, всё влюблено одно в другое, –
–хотели ли вы когда-либо дважды пережить мгновение, говорили ли вы когда-нибудь: “Ты нравишься мне, счастье! миг! мгновенье!” Так хотели вы, чтобы всё вернулось!
– всё сызнова, всё вечно, всё сцеплено, всё спутано, всё влюблено одно в другое, о, так любили вы мир, –
– вы, вечные, любите его вечно и во все времена; и говорите также к скорби: сгинь, но вернись назад!”
[9] См. Агамбен, “Открытое”. Там же многое можно прочитать по нашей теме. Оказывается, что к скуке человек способен из-за возможности приостановки (субботы!) животных рефлексов, человек — животное, выключенное из мира. Бибихин считал важнейшим свойством живого существа — амеханию, зависание, приостановку механизмов: “Механика кончается в амехании, но полная амехания вдруг переходит в любую возможность”, “в каждом опыте амехании, отказа механизмов, возвращается ситуация начала всего” (“Лес”). Кожев считал, что человек обретает человечность в красивом бесцельном риске. Это прямо противоположно активности, закрывающей от человека скуку и смерть.
[10] “Сколько я себя ни наблюдаю, я не нахожу в себе ничего, что не укладывалось бы в какую-то заранее известную процедуру, в какой-то запрограммированный процесс. Вся наша жизнь состоит из таких процессов. Мы знаем, что означает “водить машину”, “заполнять анкету”, “смотреть телевизор”, “выстроить синхрофазотрон”, и точно так же мы знаем, что такое “прийти в отчаяние”, “заняться самоанализом”, “испытать экстаз бытия”, “пережить неразделенную любовь”, “быть откровенным” и т. д. Все это процедуры, состоящие из каких-то слов, действий, состояний, решений и т. п. Их можно проигрывать в любой последовательности: можно, например, одновременно “вести машину” и “приходить в отчаяние”, можно “заполнять анкету” и “испытывать экстаз бытия”, хотя трудно “смотреть телевизор” и “быть откровенным”.
Означает ли это, что человек исчез, растворился и что весь мир представляет собой объект без субъекта, огромную машину, состоящую из множества функций и приводимую в действие неведомой силой, имманентной ей энергией, так что говорить о человеке — означает питать идеологическую иллюзию?” — Гройс, “Дневник философа”.
[11] Об этом я писал по-разному в “Чего следует желать”, “Спасенная сексуальность”, “Что делать после конца света”, “Апокалипсис Стругацких”.
[12] “Что делать?” — спросил нетерпеливый петербургский юноша.— Как чтo делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай”. — Розанов, “Эмбрионы”.
[13] “Тяжкая обязанность быть полезным”. — Беньямин, “Озарения”.
“Страшное поле ложной активности. Меня спасли феноменальная лень и разгильдяйство”, — Пятигорский в одном их своих интервью.
“Депрессия…” Если бы я мог так назвать свое всегдашнее уже теперь почти состояние, но оно хуже любой неименуемой серой болотной грязи, и даже так я оскорбляю благородное болото и идеализирую себя. То, что еще дает мне право как-то дышать, уже давно не я, в котором “ничего хорошего не помню”, а мне не принадлежащее, очень далекое и такое редкое. …”Хуже не бывает”. Нет, хуже и жутко сразу становится, когда вместо депрессии начинается слепая, глухая и губительная паника, которую люди называют бодростью, активностью, жизнью, еще не дай Бог успехом и благополучием”, — Бибихин в переписке с Седаковой.
[14] “Встряхнись, приободрись, оставь себя. Обжигающая красота этих вещей, звезды, земля, вертикаль, проведенная тяготением, позволяющая строить; слово; человек. И устранись. Дай им быть. Ты не важен”. — Бибихин, “Узнай себя”.
[15] Но время современному человеку прожечь не удастся, ведь он не может отказаться от “активности”: “Отдых, расслабление, отвлечение, развлечение являются, может быть, “потребностями”; но они не представляют сами по себе присущее досугу требование, каким является потребление времени. Свободное время может быть заполнено всякой игровой деятельностью, но прежде всего это свобода потерять свое время, “убить” его в известных случаях, израсходовать его в чистой трате. Вот почему недостаточно сказать, что досуг “отчужден”, потому что он является только временем, необходимым для восстановления рабочей силы. “Отчуждение” досуга имеет более глубокий характер: оно не состоит в прямом подчинении его времени труда, оно связано с самой невозможностью потерять свое время.
Настоящая потребительная ценность времени, та, которую безнадежно пытается восстановить досуг, — это свойство быть потерянным. Каникулы являются поиском времени, которое можно потерять в полном смысле слова, так, чтобы эта утрата не вошла, в свою очередь, в процесс подсчета, так, чтобы время не оказалось (одновременно) некоторым образом “выигранным”. В нашей системе производства и производительных сил можно только выиграть свое время: эта фатальность тяготеет над досугом, как и над трудом. Можно только “сделать производительным” свое время, будь это красочно пустое употребление. Свободное время каникул остается частной собственностью отдыхающего, объектом, благом, заработанным им потом в течение года, находящимся в его владении, с которым он поступает, как с другими объектами, но которого он не мог бы лишиться, чтобы его подарить, пожертвовать им (как поступают с предметом в случае подарка), чтобы вернуть его в полную незанятость, в потерю времени, что было бы его настоящей свободой. Он скован со “своим” временем, как Прометей со своей скалой, скован в прометеевском мифе о времени как производительной силе.
Сизиф, Тантал, Прометей — все экзистенциальные мифы “абсурда свободы” характеризуют довольно хорошо ситуацию отдыхающего, все его отчаянные усилия подражать “ничегонеделанию”, необоснованности, полному необладанию, пустоте, утрате самого себя и своего времени, чего нельзя достигнуть, если объект взят, как он есть, в измерении окончательно объективированного времени.
Мы живем в эпоху, когда люди никак не могут осуществить в полной мере потерю своего времени, чтобы предотвратить фатальную для их жизни необходимость зарабатывания его. Но от времени не освобождаются, как от нижнего белья. Больше нельзя ни убить его, ни потерять, как и деньги, ибо и то и другое является самим выражением системы меновой стоимости”. — Бодрийяр, “Общество потребления”.
[16] О отношениях христианства и нигилизма см. “Во Христе прогорк мир”.
[17] О противостоянии телеологии и эсхатологии, Цели истории и Конца истории см. “Что делать после конца света”. Там же цитируются многие мыслители, помогающее нам и здесь: Беньямин с его мессианским застыванием, Кожев с его остановкой Действования в Конце истории и Агамбен с его Вечной Субботой средств-без-целей.
[18] Кожев в “Наброске доктрины французской политики”, постоянно имея в виду главную свою тему — Конец истории, утверждает, что культуры, взращенные церковным христианством, обладают одним существенным преимуществом перед протестантскими культурами с их знаменитой деловитостью. Он описывает это преимущество так:
“Искусство праздности, которое служит источником искусства вообще, склонность к созданию этой “сладкой жизни”, которая не имеет никакого отношения к материальному благополучию, то “dolce far niente”, которое вырождается в чистое безделье, если не направлено на производительный и плодотворный труд […] предполагает наличие глубокого чувства красоты […], связанного с очень тонким чувством гармонии, и которая, таким образом, позволяет превратить простое “буржуазное” благополучие в аристократическую “сладкую” жизнь и частое смакование удовольствий, которое в иных обстоятельствах показалось бы (и в большинстве случаев действительно было) “вульгарным”, [Это искусство праздности будет оправдано в глазах] мира и Истории. Мира [так как другие культуры] никогда не узнают, как посвятить себя совершенствованию своего досуга; и Истории, потому что если национальные и социальные конфликты будут раз и навсегда прекращены (что, возможно, произойдет раньше, чем принято считать), необходимо будет признать, что в будущем человечество должно направить все свои усилия на организацию и “гуманизацию” своего свободного времени. (Разве сам Маркс не говорит, повторяя — сам того не осознавая — слова Аристотеля, что основная движущая сила прогресса и, следовательно, социализма состоит в желании обеспечить максимальный досуг человеку?)
[19] “Во сне Джеймс-Джеймса я видел, как силы Пальмового Сада быстро и скрытно прибывают. Так что они должны быть уже рядом сейчас (но сказать “сейчас” значит впасть в заблуждение, что линейное время реально). Они могут быть уже в секундах от нас. Но Палмер Элдрич может вращать свой иллюзорный мир кажущуюся вечность. Это как в “Глазе”, когда до помощи подать рукой, но они никак не могут проснуться. Да, мы спим, как в “Глазе”, мы должны проснуться и увидеть прошлое сквозь сон — ложный мир со своим собственным временем, увидеть помощь снаружи, которая тут уже сейчас. Восприятие сил Пальмового Сада — это не восприятие будущего события, это, как в “Глазе”, осознание того, что реально присутствует уже сейчас” — эту и другие прекрасные цитаты из Филипа Дика я привожу в “Трэш-теологии”.
[20] В строгом богословском смысле: Манусакис в “Богословской эстетике” пишет: “в самой скромной сценке, схваченной художником, во всяком образе странного, обыденного, повседневного, в каждом случае, когда временное делается вечным (ephemeral-made-eternal), искусство превращается в свидетельство о вечном и сделавшемся временным Боге и прославление Его”.
[21] Агамбен в “Остающемся времени” и других своих работах много и подробно говорит о том, что главная черта Субботы, суть мессианического времени — в не уничтожении чего бы то ни было, но в дезактивации, приостановке всего (“Имеющие как не имеющие”): праздничное пользование. Подарки — вещи в субботнем режиме, танец — движение в субботе, поэзия — язык в субботе. Праздник, Суббота по Агамбену есть особый режим действования, который ныне совершенно закрыт для нас.
Книги
Статья «Суббота» из «Словаря библейского богословия» — очень кратко о том, что говорит Библия о Субботе.
Макарий Великий. «О ветхой и новой субботе» — о том, что истинное субботствование заключается в праздности и свободе души от злых дел и «жестоких поработителей».
Григорий Нисский. «Слово на Святую Пасху, и о тридневном сроке Воскресения Христова» — о «субботствовании плоти Христа», то есть о его смерти: Суббота в христологическом контексте.
Краткое толкование четвертой заповеди Николая Сербского.
Блаженный Августин в конце своего «Града» говорит о Субботе в эсхатологическом контексте, о Субботе истории.
Краткий и емкий комментарий Владимира Стрелова.
Очень подробно и глубоко — в лекциях Владимира Сорокина «Библейская аскетика», посвященных Декалогу.
Шмеман. «Великопостные субботы» — о Субботе как празднике.
Кураев в главе «Бог и боги» книги «Сатанизм для интеллигенции» о том, как Суббота разделяет мототеистов от язычников, напоминая о Едином Творце.
Кураев в «Обращении к адвентистам» о том, что Православная Церковь соблюдает Субботу, а не заменила ее Воскресеньем.
Манусакис. «Великая Суббота опыта» — о смерти Христа.
Томаш Седлачек. «Прогресс, Новый Адам и экономика шаббата».
Агамбен. «Бычий голод. Размышление о шаббате, празднике и бездействии» из сборника «Нагота» — лучшее, что мне попадалось о Субботе.




