— Покаяние — это революция
— Теология стокгольмского синдрома
— «Христос воскресе» как акт высказывания
— Во имя Отца и Сына и Духа Святого
Сначала, несколько полезных ссылок:
путешествие по посту продолжается, подготовили ряд новых статей.
А также подборки материалов о важных днях:
10 апреля — неделя Иоанна Лествичника,
17 апреля — неделя Марии Египетской,
формально последнее воскресенье Великого поста,
а потом неделя Вайи — начало Страстной седмицы — собственно того, к чему пост готовит.
Также близятся два уникальных богослужения — Мариино стояние (14 апреля) — единственное сохранившееся в современном богослужении уставное чтение жития, и Суббота Акафиста (16 апреля) — единственный случай богослужебного использования акафистов.

«Христос воскресе» как акт высказывания
В прошлый раз мы говорили о теодицее. Мы поняли её как часть теологии скокгольмского синдрома, а ту, в свою очередь, — как идеологию мироправителей тьмы века сего.
Истинное решение проблемы зла — в констатации: зло не оправдать теоретически, с ним следует бороться практически. Избавление от логики мира сего и усвоение логики Креста — вот задача христианской теологии, разоблачение порочной логики теодицей (мы свели её к мирской логике рынка) и выполнение критериев Страшного Суда. В этом — действительность любви, порученной нам Христом: добро — стержень истории, а милосердие — апокалиптично.
Зло — это не то, что надо объяснить, а нечто, от чего надо избавиться. Теология стокгольмского синдрома возникает там, где забыта логика Креста.
Говорить по-христиански
Какова же логика Креста? Как следует мыслить и говорить по-христиански?

Чтобы ответить на этот вопрос, вооружимся понятием акта высказывания, пришедшем из лингвистики, переосмысленном Лаканом и активно разрабатываемом сейчас Александром Смулянским на знаменитых семинарах «Лакан-ликбез». Оговорюсь, что я не претендую на строго корректное использование этого понятия — оно мне нужно в целях чисто инструментальных.
Следует различать акт и содержание высказывания. Муж спрашивает жену: «как ты провела день?». Содержание его высказывания — вопрос о событиях. При этом в акте высказывания муж может «говорить»: «я люблю тебя», «я тебя ненавижу», «мне скучно говорить с тобой». Или скорее: «общество велит, по неизвестным мне причинам, спросить тебя о прошедшем дне».
Другой пример — Иоаннова формула «Бог есть Любовь». Её произносят икнвизитор, обыватель, студент, святой. И мы сразу видим, что различия актов высказывания меняет всё:
— инквизитор очевидно врёт,
— обыватель произносит пошлость, банальность,
— студент цитирует древний текст, желая показать свои знания,
— и только святой, повторяя формулу Иоанна, произносит истину.
«Бога нет» — говорит атеист-обывать, и мы чувсвтвуем в его словах обиду. В своём акте высказывания атеист не «ведёт речь» о небытии Бога, а обвиняет Его в том-то и том-то. Заметьте, что такой акт — общий и для массового атеизма, и — одновременно — для чего-то такого, что обычно называют «просто» религией. Ибо современная религия и атеизм в своём акте — одно и тоже.
Содержание высказывания может быть каким угодно, формально верным или неверным — но всё решается в его акте. Акт высказывания управляет всей совокупностью речи.
Вернемся к теодицее. Звучит вопрос: почему Бог допускает зло? Попробуем высветить акт высказывания: кто, как и зачем спрашивает и о каком Боге идёт речь, в каком контексте?
Как мы показали в прошлой статье, когда речь заходит о теодицее, акт высказывания, как правило: «Бог виновен во зле, Бог и есть зло».
Каков же христианский акт высказывания? Слова «Бог есть» ни о чем не говорят сами по себе, их может сказать кто угодно. Специфически христианское высказывание — «Христос воскрес». Вот здесь всё меняется.
Ниже я рискну обрисовать вкратце теорию смены актов речи о Боге в чрезвычайно общем виде — понимая, что такие теории априори неверны; таким образом я скорее иллюстрирую идею.
Что говорят о Боге разные эпохи
«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов перед лицем Моим». Бог Ветхого Завета — не абстрактый Бог, а Тот, Кто вывел евреев из Египта; другим «богам» — нет места. Эта первая заповедь задает всю речь законодателей, хронистов, поэтов, мудрецов и пророков Израиля.
Благая весть: «Иисус воскрес». Это высказывание управляет всем церковным дискурсом, святоотеческим богословием, богослужением. Иисус воскрес, победил грех, смерть и ад, спас мир. Таким мы узнали Бога. Не Господина религии или Старика атеистов — мы узнали Распятого Бога, победившего зло. Церковный дискурс — дискурс прославления, пасхального благодарения. Христиане не знают никакого другого Бога, кроме Того, Кто явил себя в Иисусе, и мы верим, что это Откровение — совершенное и абсолютное, «полное». Другие «боги» — бесы, или нет их вовсе.
«Бог» — это Тот, Кто вывел евреев из рабства, Тот, Кто явил Себя в Иисусе, был распят и воскрес.

Я думаю, где-то во времена перехода от патристики к схоластике, от романского к готическому стилю происходит смена акта христологического («Христос воскрес») на акт (а)теистический («Бог (не) есть»). Где-то в пресловутом трактате Ансельма, где в плане содержания, как блестяще покал Дэвид Харт, нет ничего, чего бы не было в патристике, тем не менее, фатально меняется стиль и логика. Теологическая речь переходит из режима прославления Пасхи к режиму «доказательств», поиска необходимости того и сего. Бог, явленный в Иисусе, сменяется на Бога метафизики и морали. На Бога (а)теистического, Бога теологии стокгольмского синдрома.
Иными словами, теология становится «наукой». Той самой «наукой», которую критиковал Хайдеггер. К сожалению, он не знал патристики — той теологии, которая наукой не была, а была поэзией, риторикой, проповедью, хвалой и пр. — т. е. как раз таким типом речи, которую практиковал сам Хайдеггер.
Метафизика говорит: «Бог есть», мораль говорит: «Бог благ». Все это «наука», теология как дисциплина, а не речь общины, живущей во Христе. Естественно, эти формулы верны и с чисто евангельско-патристических позиций, если они даются как содержание высказывания, чей акт: «Христос воскрес». Но если эти формулы сами становятся актом теологической речи, пиши пропало.
Схоластика великолепно доказывала бытие Божье. Лейбниц, открыватель термина «теодицея», великолепно доказал «невиновность» Бога. Но за всем этим скрывается многовековой судебный процесс над Богом: есть ли Он? почему допускает зло? Но это «Он» уже обозначало жестокого Господина, посылающего злых в ад, а добрых в рай, создавшего грех, смерть и страдания. Конечно, от такого Господина надо избавиться. И приговор был вынесен: виновен.
Сказать «Бог есть» значит подразумевать, что возможно обратное: «Бога нет». Поэтому тот дискурс, который пришел на смену евангельско-патристическему, христологическему, мы называем (а)теистическим. Скобочки вокруг буквы «а» имели место в схоластике, и раскрылись они в Новое время. «Бог» Декарта, Канта и прочих — не Бог Евангелий. Это «Бог», которого мы нашли в теологии стокгольмсого синдрома. Но тот же «Бог» фигурирует и у Фейербаха, Вольтера и пр. Ибо а-теизм и просто-теизм управляется одним и тем же актом высказывания: обвинения Бога в небытии и причинении зла.
Гениально об этом писал Бердяев:
«Христос — единственная теодицея. Теизм не христианский, без Троичности и без Христа, ужасен, мертвен и ненужен. Нельзя верить в Бога, если нет Христа. А если есть Христос, то Бог не хозяин, не господин, не самодержавный повелитель — Бог близок нам, человечен, Он в нас и мы в Нем».
Достоевский писал обо всей этой ситуации на своём опыте:
«Я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стóит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной».
Если дискурс эпохи («наука») утверждает, что истина вне Христа, то христианину приходится «истиной» пожертвовать. Здесь видна несоединимость (а)теизма и христианства: «Христос прекрасен», «Бога нет» — речь в этих двух формулах явно о чём-то разном.
Схоластика — время теизма. Модерн — время отрытого судебного разбирательства над Богом теизма, время а-теизма. Ницше привел приговор в исполненение: «Бог мёртв». Интересно, что почти одновременно с ним Достоевский констатирует то же самое: «Мы Бога убили» (в «Бесах»).
Истинной формулой атеизма является не «Бога нет», а «Он мёртв, мы его убили» — это со всей ясностью показал тот же Лакан, хотя у Ницше и Достоевского это «и так» видно. Здесь акт теологической речи снова сменился. Прославление «Христос воскрес» сменяется на «Бог (не) есть», а оно, в свою очередь — на «мы убили Бога».
Оправдание, обвинение, приговор, казнь. Мы живем после казни: не «мы убили Бога», а «Бог был убит».
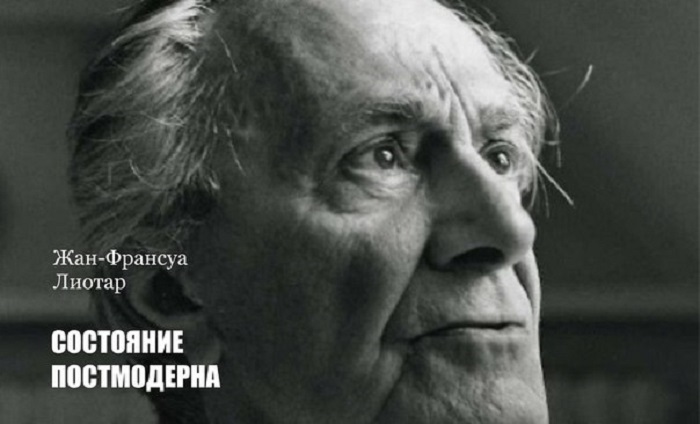
Модерн сменяется постмодерном — словцо маловнятное, из-за слишком частого употребления. Лиотар, «постмодернист» в собственном смысле слова, называл так время окончания действия метанарративов — «сверхрассказов», объясняющих всё и вся, вроде марксизма или гегельянства. Получилось довольно забавно, ибо тогда очевидно, что метанарратив постмодерна — метанарратив о конце метанарртивов. Это в общем-то верно.
«Убийство Бога» закрывает долгую эпоху. «Смерть Бога», провозглашенная Ницше, была смертью схоластического и модернисткого Бога — Бога гуманистической морали, удобного Бога системы, Бога философии — «нравственного и метафизического Бога», а не Бога Писания и Церкви. Процесс завершен. Современность есть время «пост» — «после» всего того, что было. Мы сидим в руинах марксизма, национализма, науки, культуры, литературы и прочего и прочего, и не знаем, зачем всё это нужно.
Зато христиане выбрались из ловушки Достоевского: нам не надо выбирать больше между истиной и Христом. Многоголосица постмодерна может наконец позволить христианскому дискурсу строиться свободно. Долгие века не было столь великолепных перспектив для христианской речи — проповеди, благовествования — как после конца метафизики и морали. Умели бы мы только говорить по-христиански.
По-христиански — это когда говоришь «привет» или «дай воды» так, чтобы в акте высказывания звучало — «Христос воскрес». «Христос воскресе, радость моя» — образцовая речь христианина от Серафима Саровского — и он так говорил в приветствии, т. е. начиная любой разговор. Он использовал эту формулу именно как акт высказывания. Это святость, конечно, но святость на то и святость, чтобы к ней стремиться. Иные из наших единоверцев рассказывают о Церкви или об Отцах или о чем-то ещё «православном» так, что мы не слышим там «Христос воскрес», а, например, «я прав, а ты — нет» — при всей формальной верности того, что они говорят. Давайте попробуем обсудить несколько богословских тем, не забывая того акта, что должен управлять христианской речью: «Христос воскрес».
Говорить по-христиански: ад
Например — ад. Ад есть, мы знаем это хотя бы по собственному опыту: греха, страстей, уныния, ненависти и пр. Как сказал отец Дмитрий Смирнов: «хотите убедиться в реальности ада? Посмотрите в зеркало». Ад есть, да, но как мы это говорим? С садистическим удовольствием? Или с плачем? Святые, такие как Исаак Сирин или Силуан Афонский, плакали о аде, молились за его узников. Другие же, несвятые, хотят, чтобы кто-то был «наказан» адом. Выведем проблему на богословский план: ад — это Божья тюрьма? Или — сущее, восставшее против Бога-Любви? Христос освобождает узников из ада или посылает грешников туда? Сатана — Божий надзиратель или враг Бога? Ад задуман Творцом или он — то, что должно быть побежденно?
Если «Христос воскрес» — то Он победил ад, вывел пленников из ада, хочет чтобы там никого не осталось. И тогда Он не посылает туда в наказание. Ад — это тайна Божьей любви и человеческой свободы. Бог создал свободных существ, и следовательно — они могут не быть с Ним. Но не быть с Ним — это и значит быть в аду. А быть с Ним — значит хотеть, чтобы в аду никого не было: солидоризироваться со Христом в войне против ада.
Говорить по-христиански: апокатастасис
Та же логика с апокатастасисом — восстановлением всей твари в Боге, спасением всех. Иные очень любят критиковать эту идею. И они правы: если апокатастасис предзадан, значит — нет свободы, нет любви, всё сводится к какому-то бездушному механизму. Но опять же: как мы этом говорим? С садистическим удовольствием: как хорошо, что некоторые наши братья (или мы сами!) будут посланы в вечную муку? Это хотя бы эмоционально не по-христиански. Христиане — истинные — здесь плачут; плачут, что кто-то не будет спасён… Как тот святой, что просил у Бога: Господи, я грешен и достоин ада, но пусть я там буду один! Спаси всех остальных! — вот так мыслят христиане.
Если «Христос воскрес», то Он хочет, чтобы спаслись все. И Он сделал и делает и будет делать всё, чтобы все спаслись. Апокатастасис — не догмат конечно, он — мечта, цель. Бог хочет апокатастасиса, но исполнение спасения завист от нашей свободы. И поэтому идея всеобщего восстановления нет-нет да и проскакивает на всём двухтысячелетнем существования Православия: в виде ли теорий или в виде молитв великих святых.
Говорить по-христиански: искупление
И вот само Искупление. В вульгарно понятой юридической теории Искупления (а она примерно то, что представляют наши современники, далекие от Православия, при мысли об отношениях Отца и Сына) получается что Христа убил Бог: Бог-христоубийца, Бог-богоубийца! Это — венец теологии стокгольмского синдрома. Но ведь убил Иисуса не Бог (Иисус — Сам Бог, как мы узнали в Пасхе), а чиновники и солдатня, священники и фанатичная толпа. Бог не убивал Христа: Бог Его воскресил. Нет, ничего страннее и страшнее это антиэдипальной драмы Отца, убивающего Сына… Убийство — дело греха. Воскресение — дело Бога.
Что сразу бросается в глаза в этой страшной драме, так это то, что здесь нет Духа. Это то, что мы видим и в истории теологии, и в её переходе от патристики к схоластике, и в модернисткой философии: там Троица забывается, а в Новое время Её вовсе нет. Мы говорили, что «боги» бывают разные. Тот, Бог, что открылся в Иисусе — Троица. И об этом — в следующий раз.
Посмотрим современные образцы православной речи —книги авторов, творящих прямо сейчас. Это несколько современных высказываний в акте «Христос воскрес»:
Перво-наперво — «Красота бесконечного» Дэвида Харта — совершенно гениальная книга, наиболее совершенно излагающая — как мне кажется — православную догматику в перспективе современной мысли. На просторах Сети этой книги, к сожалению нет, но настойчиво рекомендуем к прочтению.
«Бог после метафизики. Богословская эстетика» Д. П. Мануссакиса — другой шедевр современной православной мысли. Мануссакис в русле феноменологической традиции (Мариона прежде всего) хочет ответить на вопрос: «как возможно явление Бога?». Для этого он вводит свою «редукцию» — «обратную интенциональность»: главное слово не «Я», а «МЕНЯ» — субъект есть в смысле «меня любят», «на меня смотрят». Отношения (любви прежде всего) первичней субъекта. На таком фундаменте Мануссакис показывает, как Бог является зрению, слуху и осязанию.
«Вариации на тему Песни Песен» Х. Яннараса — прекрасный, как и по поэтичности, так и по глубине текст о любви: человеческая любовь, ее трагические срывы и ее стремление к Божественной Любви.
«Бытие как общение. Исследование о личности и Церкви» Иоанна (Зизиуласа) — уже классика. Владыка Иоанн выводит определение личности и Церкови из идеи Троицы, т. е. в единственно верном с православной точки зрения ключе.
«Внутреннее Царство» Каллиста (Уэра) — сборник статей о смерти и воскресении, юродстве, молитве, мученичестве, времени, спасении всех.
«Сострадание Отчее» Бориса Бобринского — забыл эту книгу упомянуть в прошлый раз, она как раз о теодицее — в тринатарной перспективе.
«Дары и анафемы» Андрея Кураева — опус магнум «миссионера всея Руси». О том, как христианство изменило мир.
«Зона opus posth, или Рождение новой реальности» Владимира Мартынова — одно из самых значимых высказываний о положении современного мира, нашей ситуации «пост…» и «смерти…». Ситуация «конца», в котором оказалось современное человечество — и это одна из самых блестящих мыслей Мартынова — не означает какого-либо пессимизма. Конец обещает начало: если история модерна — постепенной десакрализации — заканчивается «смертью Бога», и мы живем «пост» — после этой «смерти», то — как минимум — эта ситуация, во-первых, новая (немодерная, то есть не несущая десакрализации), а во-вторых, она носит явно религиозный характер. Сейчас «после конца», а значит перед началом неизвестного нового, мы обретаем невиданную раннее прозрачность и невиданные раннее возможности — прозрачность сквозной «христианскости» нашей истории и нашего теперешнего положения, в терминологии Мартынова — возможности нового сакрального пространства.
«Диптих безмолвия» Сергея Хоружего. Хоружий — наверное, самый значимый современный русский православный философ — в своём творчестве тематизирует исихасткую традицию. «Диптих» — одна из первых его книг.
«Аристотель на Востоке и на Западе. Метафизика и разделение христианского мира» Дэвида Брэдшоу. Здесь прослеживается история концепта «энергия», начиная с Аристотеля через Античность и до Аквината и Паламы. Главное — «энергия» в католической и православной теологиях.
Это всё — философия и богословие. Дополним этот список именами четырёх выдающихся современных христианских поэтов, которые являют в своем творчестве тот же пасхальный акт высказывания: Ольга Седакова,Тимур Кибиров, Сергей Круглов и Борис Херсонский.





