XV.
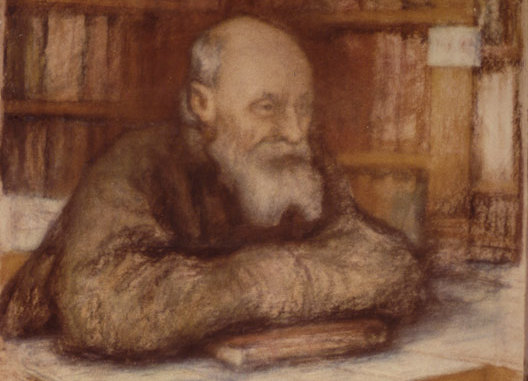
Мы приводили Достоевского, Розанова, Кьеркегора как примеры мыслителей, вышедших из режима символической кастрации и тем самым обретших возможность кое-что сказать о фаллократии, то есть о логике традиционных обществ, то есть — всех обществ, не затронутых Евангелием, и нашего общества, насколько оно еще не евангелизировано. При этом Достоевский и Кьеркегор воспользовались этой возможностью так, что стали образцовыми христианскими мыслителями, а Розанов так, что стал сильнейшим критиком христианства, сильнейшим апологетом фаллократии.
Мы писали также о Соловьёве как примере мыслителя, который приблизился к точке постижения истины символической кастрации, но не смог двинуться дальше. «София» Соловьёва своей причудливостью, «безумием», «странностью» говорит о том, что Соловьёв стоял уже у обжигающей истины, его мышление уже начало деформироваться, дестабилизироваться под её жаром, но ему не удалось выстроить новый дискурс. И в итоге он скатывается в типичное «фаллократическое» наукообразие своих основных текстов.
Незаконнорожденный сын и Отцовская метафора
Николай Фёдоров — пример мыслителя, который всё своё творчество не покидал точку безумия: он, опалённый огнем истины, не смог, однако, создать новый дискурс, но и не ретировался в наукообразие.
Фёдоров — крайне современный мыслитель. Просто перечислим его темы: экология, зеленая энергетика, свобода информации, отмена авторского права, урбанистика, всеобщее участие в общественных делах, информационная/креативная экономика, библиотечное и музейное дело, глобализация, критика европоцентризма, критика капитализма вообще и в частности как эксплуататора и губителя природы, трасгуманизм, научная утопия и вообще мысль об общественном значении наукотехники. Фёдоров — такой «зелёный левый», при этом апологет технологий: важное сочетание, ибо экологи частенько скатываются в антитехнологический алармизм (Фёдоров совмещает большевистский пафос покорения природы с заботой о ней).
А с другой стороны: православный богослов, критик современного разврата и городов, русский патриот, монархист, один из мечтателей о Царьграде, славянофил, консерватор.
Ну и, конечно, — пресловутый проект технологического воскрешения всех мертвых с последующим расселением воскресших на просторах космоса. Как видите, действительно дикая смесь. Причудливости, странности и безумия хоть отбавляй.
В чём секрет этой смеси, тайная её логика? Ответ даже слишком лёгкий и не раз уже дававшийся: центральная «мысль» Фёдорова (если эту его навязчивую идею можно назвать мыслью) — не просто воскрешение, а воскрешение отцов. При этом Фёдоров — незаконнорожденный сын. Незаконнорожденность, слабая позиция перед отцовством — вот тот разрыв фаллократии, в котором работал Фёдоров. Такой точкой у Достоевского и Розанова было унижение, причиненное женщиной; у Кьеркегора и Соловьёва — половое бессилие; а у Фёдорова в каком-то смысле всего трудней, всего горше — слабость ввиду Отцовской метафоры (следует говорить именно о метафоре, а не о реальных папашах, которые могут быть какие угодно или вовсе отсутствовать; метафора всё равно работает независимо от них). Отцовская метафора — это не кто иной, как Большой Другой, божество социума, напрямую совмещающее социальное и фаллическое. Отец — тот, кто зачинает, тот, кто даёт закон, тот, кто даёт жизнь и правит ей на биологическом, психическом и социальном уровнях. Отцовство — главная фигура фаллократии, и именно им ввиду своей незаконнорожденности Фёдоров занимается. Можно ли его винить, что он так и не смог покинуть пределы Отцовской метафоры, учитывая всю основополагающую роль отцовства? Подкопать под неё — означает подкопать под социальные и психические структуры как таковые. Тем паче что Смулянский в «Метафоре Отца» утверждает, что покинуть её просто-напросто невозможно. Зато, считает Смулянский, иных путей к освобождению, кроме новых извлечений из метафоры Отца, не существует. Мы для начала разберёмся, как у Фёдорова обстоят дела с Отцовской метафорой, а затем — какие пути освобождения из неё он извлёк.
Но подчеркнем, что критиковать Фёдорова за все его фантазии — и слишком легко, и неверно. Причудливость, странность и безумие его текстов — знаки того, что он подошёл к самому главному; они — как следы радиации у тех, кто приблизился к источнику излучения. Конечно, его мышление вывернуто, искажено, изогнуто — а как ему не быть таковым, если Фёдоров подкапывает под самую основу мышления, под Отцовство? Остережемся критиковать и по другой причине: многие мысли Фёдорова казались чудачествами в XIX веке, а ныне — актуальны, в мейнстриме. Например, отказ от авторских прав, зелёная энергетика; проблема старости, ныне очень серьезная из-за увеличения продолжительности жизни — ни в одну эпоху не было так много стариков, и это при современном культе молодости. Как бы и с другими его проектами не произошло то же самое со временем.
Ошибки Соловьёва и Фёдорова: похожие и разные
Фёдоров и Соловьёв — великие христианские мыслители. Христианство — религия любви, следовательно, для христианской философии принципиально то, как мыслится в ней любовь, побеждающая смерть. И вот Соловьёв мыслит её в форме родства по свойству, а Фёдоров — в форме родства по крови. Соловьёв достигает бессмертия во влюблённости, так оканчивая размножение: влюбленность обессмертивает и продолжать род больше на надо. Фёдоров достигает бессмертия в воскрешении отцов, так оканчивая размножение. Иными словами, они оба продолжают мыслить в семейной метафоре (Розанов как критик христианства использует оба вида родства, обвиняя христианство в борьбе с ними; Розанов на стороне отца, против Христа как того, кто уничтожает отцовство, семью и пр., вносит скопчество, антисемейное братство и т. д.). Собственно христианскую любовь они помыслить так и не смогли, не смогли принять ее «унижающего» уравнивания (собственно, Розанов понял и отверг).
Соловьёв мыслил любовь как любовь влюбленных. Мы помним, какой странностью это закончилось: в его утопии любить почему-то можно идти «восходящей» или «нисходящей» любовями, просто любить нельзя. «Высшие» мужчины любят Софию (Вечную Женственность, Святой Дух), «высшие» женщины (но не такие высшие, как высшие мужчины) любят «высших мужчин», этих женщин — мужчины пониже и т. д. Получается своего рода богословская оргия: Отец — Сын — Дух, Дух — мужчина — женщина, женщина — мужчина — женщина и т. д. Такая вот ерунда получается, если вы не понимаете главное в любви — отсутствие иерархии, не понимаете равенства (в богословии это непонимание носит название ереси субординационизма).
У Фёдорова та же проблема: главная метафора любви у него — любовь отцов и детей, то есть иерархия. И тоже получается ерунда, но другого, более интересного рода: сыны, любящие своих умерших отцов, свершат высшее дело любви — воскресят отцов. Таким образом, сыны станут своим мёртвым отцам — отцами, и тут у нас тоже выходят странноватые отце-сыновья, сыно-отцовская оргия. Но если Соловьёв равные отношения влюблённых опрокидывает в иерархию мужчина — женщина, то Фёдоров иерархию отец — сын опрокидывает в перемену их мест в воскрешении. Оба таким образом не могут выпутаться из логики иерархии, что приводит их к весьма странным результатам.
Ошибкой было уже то, что они для любви использовали метафору семьи, не суть важно, что один — по свойству, другой — по кровности. Ибо семья есть место «рождения» фаллократии, то есть иерархии, то есть того пространства, где места любви нет, каковое пространство, следовательно, религия любви должна уничтожить. Таким образом, если вы пристёгиваете семейную метафору к религии любви, у вас получается ерунда. Но, как мы уже сказали, из Отцовской метафоры выйти нельзя, а плюс к тому, очевидно, что христианство само использует Отцовскую метафору по полной. Так, да не так.
Возлюблённые без детей, сыны без жён
В силу намеченных сложностей трудно зафиксировать подлинный религиозный статус наших мыслителей. Соловьёв, конечно, христианин, но как мыслитель, выстроивший систему иерархии, замкнутую на Первоедином, замешанную притом на эротической мистике — в общем-то, типичный языческий метафизик. Фёдоров — тоже, конечно, христианин, но как исповедующий культ предков — дремучий язычник.
Не родители и дети, не мужья и жены — а братья и сёстры. Три вида семейной метафоры, и только третья — христианская, уничтожающая де-факто семью. Но Соловьёв: возлюбленные без детей. Но Фёдоров: сыны без жён. Они крутятся около одной истины.
Из Отцовской метафоры выскочить нельзя, ибо на ней устроена вся наша психика, выскочить из неё можно только в безумие. При этом на ней основан мир сей, а Царство Христово — не от мира сего. Не в силу ли этих причин христианство для мира сего — безумие и соблазн?
Христианство не от мира сего, но пребывает в нём. Пребывая в мире сём, оно использует Отцовскую метафору, но будучи не от мира сего — использует его весьма своеобразно, уничтожая:
«Все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах».
У нас нет другого языка кроме отцовского, поэтому Евангелие вынуждено его использовать — в целях уничтожения отцовства. Бог-Отец — не Отцовский бог, а Бог, выравнивающий всех людей Своей Любовью, то есть уничтожающий иерархию (отцов, учителей, князей — вспоминая евангельские примеры). Вот чего не понимает Фёдоров: Евангелие не про отцовство, а про братство:
«Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь».
Кровные узы отменяются, семейная метафора используется для связей совсем не семейного свойства. С настоящими матерью и братьями Иисус говорить не хочет, Он говорит с кем-то другими, с вполне метафорической «роднёй».
Фёдоров очень много пишет про важность кладбищ, захоронений, память усопших, в его утопии кладбище — центр всей жизни. А вот Евангелие как раз про похороны отца, специально для Фёдорова:
«Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
Иисус не «воскрешал отцов», вопреки Фёдорову, воскресил он двух детей и друга. Фёдоров — как, впрочем, и многие другие христианские мыслители — будто никогда не читал этих евангельских слов:
«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником».
«И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную».
Монастырь как испытательный полигон другой любви
А вот Иоанн Златоуст читал Евангелие лучше:
«Друзья дороже отцов и сыновей, — друзья о Христе. Не говори мне о друзьях нынешних, потому что вместе со многим другим утрачено ныне и это благо; но вспомни, что при апостолах, — не говорю о первостоятелях, а о самих даже веровавших, — у всех, как сказано: «было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. И каждому давалось, в чем кто имел нужду». Тогда не было моего и твоего».
Пользуясь этим высказыванием Златоуста, мы можем сказать: отцовство преодолевается дружбой, притом конкретно социально — в обобществлении собственности, в полном — материальном — равенстве. Последние моменты мы ниже ещё затронем, а сейчас Иоанн Лествичник, со всем монашеским радикализмом и «жестокостью»:
«Любовь Божия угашает любовь к родителям; а кто говорит, что он имеет ту и другую, обманывает сам себя, ибо сказано: «никто же может двемя господинома работати» (Мф 6:24), и проч. «Не приидох, – говорит Господь, – мир воврещи на землю» (Мф 10:34), т. е. мир между родителями и их сынами и братьями, желающими Мне работать, но брань и меч; ибо Господь веселится о разделении и разлучении, бывающем из любви к Нему».
«Странник есть тот, кто избегает всякой привязанности, как к родным, так и к чужим».
«Да будет отцем твоим тот, кто может и хочет потрудиться с тобою для свержения бремени твоих грехов; а материю – умиление, которое может омыть тебя от скверны; братом – сотрудник и соревнитель в стремлении к горнему; сожительницу неразлучную стяжи память смерти; любезными чадами твоими да будут сердечные воздыхания».
«Лучше оскорбить родителей, нежели Господа, потому что Сей и создал, и спас нас; а те часто погубляли своих возлюбленных, и подвергали их вечной муке».
«Берегись, берегись, чтобы за пристрастие к возлюбленным тобою родственникам все у тебя не явилось как бы объятым водами, и чтобы ты не погиб в потопе миролюбия. Не склоняйся на слезы родителей и друзей; в противном случае будешь вечно плакать. Когда родственники окружат тебя, как пчелы, или лучше сказать, как осы, оплакивая тебя: тогда немедленно обрати душевные очи твои на смерть и на дела (твои), чтобы тебе можно было отразить одну скорбь другою. Сии наши, или лучше не наши, лукаво обещаются сделать для нас все, что мы любим; намерение же их то, чтобы воспрепятствовать доброму нашему стремлению, а потом уже привлечь нас к своей цели».

Отцовская метафора скрепляет социальное, мир сей. Отказаться от неё — отказаться от социального. Монастырь есть радикальный отрыв от социального, выстраивание альтернативной связи (хотя, повторим, сама Отцовская метафора продолжает использоваться: «да будет отцом твоим тот…»). Лествица, как мы знаем, ведет к любви, но каким путём? Путём ликвидации всякой семейной, социальной связи, путем оставления субъекта совершено голым перед Богом (инок, монах — «одинокие», «единицы»). Это торжество нигилизма, распадение всех связей, обесценивание «семейных ценностей». Лествичник наряду с кротостью, незлобием и братолюбием упоминает непорочную ненависть к родителям. Любовь достигается, но какая?
«Любящий Господа прежде возлюбил своего брата; ибо второе служит доказательством первого».
А брат — это любой. Любовь без крови и почвы, без семейного уюта, материнской ласки, отцовского присмотра, любовной страсти, детского лепета и т. д. «Холодная», «общечеловеческая» любовь, которую так любят ругать консерваторы. Монастырь был её испытательным полигоном, ныне она торжествует по всему миру. Итак, лучшая метафора для христианской любви — дружба, братство.
Христианская любовь не выводится из любви семейной
Повторим, Фёдоров всё вышеизложенное игнорирует. Для него отцовско-сыновья любовь — образец всякой любви, для него Отцовство Бога — не орудие уничтожения земного отцовства, а его освящения, утверждения. Не говоря ничего о монастыре, Фёдоров на деле в своей «семейной» утопии какой выставляет идеал? Трудовую общину безбрачных, то есть монастырь. Как ни крути, в христианской логике к монастырю вы придете. Характерно, что такой современный мыслитель, как Фёдоров, падает в консерватизм именно там, где он не понимает христианского аскетизма. Современность есть выполнение программы аскетов.
И Фёдоров, и Соловьёв, и Розанов ошибаются вот здесь: они хотят вывести христианскую любовь из любви семейной. Соловьёв: спасение = секс без рода. Фёдоров: спасение = род без секса. Розанов: спасение = и род, и секс. Тогда как на деле христианская любовь рождается в отрыве от семьи — в чистом субъекте самом по себе, в субъекте как таковом (в «иноке»; монах — первообразец новоевропейского субъекта). Суть в том, что следует десакрализовать род, семью, секс (как собственно надо десакрализовать всё, кроме Бога, ибо только Бог свят) и переподчинить их человеческой личности, человеческой свободе.
Самое интересное, на мой вкус, в творчестве Фёдорова то, как он доходит до пределов Отцовской метафоры, но не пересекает их. Вертя её то так, то сяк, он открыто её не проблематизирует, но проблематизирует — и как мало кто! — де-факто. Незаконнорожденный сын, он зачарован отцовством. Он буквально не может от него отцепиться — так, что мы начинаем подозревать: не главное ли его бессознательное желание именно от него наконец-то избавиться? В какие космические и исторические дали ему придется забраться, чтобы избавиться от отцовства!
Фёдоров: религия Успения
Для начала: сыновья любовь как образец всякой любви должна быть сильнейшей. Но люди в своём эгоизме находят себе жён (Фёдоров почти везде использует андроцентричный язык) и «отрекаются» от отцов. Более того, верх любви — воскресить отцов, а жёны и дети отвлекаются от этого наиважнейшего дела. Следовательно, по Фёдорову, во имя любви к отцам должно отречься от «полового отбора», то есть от создания новых семей. Да и вообще, именно семья (шире — гендер: «женские прихоти» и «мужские войны») отвлекают от создания общества любви с его верховной целью — воскрешения отцов.
Фёдоров указывает, что все грехи, все неурядицы — от семьи, так же, как делали Святые Отцы, и прописывает то же лекарство, что и они: аскетизм, этого убийцу диспозитива супружества и зачинателя диспозитива сексуальности. Таким образом, Фёдоров использует Отцовскую метафору, чтобы подорвать семейную. Сверхакцентирование отцовства Фёдорову нужно, чтобы подорвать семью, то есть появление новых отцов! Критикуя современный разврат, Фёдоров не понимает, что критикует один из побочных эффектов аскетизма, разрушения семьи — то есть того, что он сам прописывает в своей мысли. Разумеется, сам Фёдоров жил без женщин (как и Соловьёв, как и Кьеркегор): сам мужем и отцом не стал; апологет родственности род не продолжил, семью не создал.
Такое сверхакцентирование отцовства подрывает в итоге и его самоё, на что мы уже указывали: сыновний долг — воскресить отцов; в воскрешении сыны станут своим отцам — отцами, и таким образом все отцы станут сыновьями, а все сыны — отцами. Отцовская метафора тем самым потеряет смысл. Нигде, повторим, Фёдоров не пересекает пределов Отцовской метафоры, но он «перегревает» её, и она сама схлопывается — в отказе от «полового отбора» ради отцов. Незаконнорожденный сын Фёдоров мечтает: 1) прекратить секс, то есть то плохое, что привело его к незаконнорожденности (интересно, что грех «полового отбора» ложится на плечи сыновей, отцы как будто бы всегда были отцами, Фёдоров нигде напрямую не говорит о том грехе, что сделал его незаконнорожденным); 2) воскресить отцов и тем самым стать «законным» отцом своему собственному «незаконному» отцу.
Фантазия Фёдорова подобна иконам Успения, где уже не Мария держит на руках Младенца Иисуса, а Иисус держит на руках младенца Марию, при этом около Её мертвого тела. Сын воскресил-родил Мать. В этом смысле религия Фёдорова — не религия Лазаревой субботы, как обычно говорят, а религия Успения.
Фёдоров и Эдипов комплекс
Надо сказать одну неприятную вещь, кою никогда не забывает Фёдоров: отец-то мёртв. И это принципиально. Отцовская метафора — это именно Мёртвый отец, Имя-Отца. Он должен быть мёртвым, чтобы управлять социумом, в смерти отец становиться Отцовской метафорой (и это проглядывает у Фёдорова в его культе предков, захоронений и пр.; мёртвые должны править: они и правят традиционными обществами — через установленные ими, во имя их, их именем Закон и Ритуал).
Фёдоров ходит около истины. Он не знает только, что отец мертв, потому что его убили. Фрейд в своём мифе об убийстве отца первобытной орды передаёт это так. Отец владел всем, всеми женщинами, всем наслаждением. Сыновьям это не нравилось. И они убили отца. Вследствие этого перед ними встала проблема: как распределить наслаждение друг с другом, между братьями, убившими отца? Запрет инцеста и прочие основополагающие культурные скрепы — это и есть Закон, установленный братьями-отцеубийцами. Социальный порядок есть порождение изначального отцеубийства.
Что же Фёдоров? Он не говорит об убийстве Отца, но зато говорит о вине сыновей перед отцами. Вместо того, чтобы воскресить отцов, они занимаются «половым отбором». То есть у Фёдорова есть все элементы фрейдистского мифа, хотя до предела он не дошёл.
Символическая кастрация, согласно фрейдистскому мифу, появляется после убийства первобытного отца: но его-то как раз Фёдоров и хотел воскресить. После убийства отца сыновья распределили самок: Фёдоров считает, что надо от самок отказаться и отца воскресить: он одновременно и одержим этим мифом, и освобожден от него. Наслаждение открывается сынам только после отцеубийства, при этом появляются сверхэго, закон, запрет и пр., но закрывается пранаслаждение праотца.
Фёдоров начал выходить из режима символической кастрации, но остался внутри отцеубийства. Эдипов комплекс: Фёдоров находится внутри эдипа, но хочет, находясь в нём, разрушить его следствия, отказывается от наслаждения, даруемого отцеубийством.
Миф Фрейда даёт нам возможность сказать нечто важное о мифе Фёдорова. Воскресить Убитого отца означает вернуться к положению до убийства, то есть до создания Закона социального порядка, до создания фаллократии. Вот тут видна вся подрывная мощь фёдоровского мифа: желая воскресить отца, он тем самым хочет подорвать порядок, основанный на его убийстве, подорвать Отцовскую метафору.
Смулянский в одной из своих лекций делает загадочное замечание: современные феминистские, ЛГБТ, квир и т. д. движения на самом деле не борются с «генитальным субъектом», как им кажется, а движимы тревогой по поводу его исчезновения. Для чего и множат гендеры в тщетной попытке добиться новой идентичности, новой нормы, нового баланса. Дело много радикальней: баланс сбился в силу пробуждения пранаслаждения мёртвого Отца, того наслаждения, которое было до отцеубийства, до появления идентичности, нормы и баланса. Психоаналитически, так сказать, воскрешение уже происходит, фаллократия в кризисе. На этот-то кризис все вслепую и реагируют; сам психоанализ, философия Фёдорова, ЛГБТ и квир, консервативное беспокойство по их поводу — лишь следствия этого процесса.
Согласно нашей гипотезе, фаллократию расшатало не что иное, как христианство. Мы уже замечали, что, говоря и о христианстве, и о современности, подмечают некий дрейф от мужского к женскому/детскому. У Фёдорова этот дрейф отмечен как отказ от создания семьи и осознания себя прежде всего детьми, сыновьями и дочерями. В этом, по Фёдорову, рецепт спасения от всех наших бед. Обратим ещё раз внимание, сколь иронично развернута наша главная тема у Фёдорова: программа ликвидации патриархального общества сыграна как раз таки сверхпатриархально через акцент на отцовстве.
Не Отец, но Брат
Фрейдов миф, как нам представляется, — не вся истина. Истина в том, что наш Убитый и Воскресший Брат открыл нам, что никакого отцовства нет, кроме отцовства Вечносущего Отца. Мёртвый отец — божество традиционных, языческих обществ. Христианство свергает этот идол. Рене Жирар доводит интуиции Фрейда до логического — христианского — конца. Языческие — то есть все когда-либо существовавшие — общества основаны на жертвоприношении. Желания членов общества неминуемо приходят в конфликт между собой; конфликт нарастает до тех пор, пока не становится угрозой существования самого общества. Тогда общество идёт на хитрость: оно канализует энергию конфликта на ком-то одном; оно убивает его, приносит в жертву; наступает мир, порядок, баланс восстанавливается; общество обожествляет убитую жертву, ведь она «принесла» мир, спасла общество. Все боги язычников — убитые жертвы. В этом подлинный смысл интуиций Фрейда и Фёдорова. Не отца убили, а брата, ибо все мы братья, будучи сыновьями одного, Вечносущего Отца, которого нельзя убить. Этот жертвоприносительный механизм был разоблачен Христом, одной из бесчисленных мириад жертв, но Воскресшей и Победившей этот механизм. Как пишет Алисон, последователь Жирара, в одной из лучших христианских книг последних лет «Вера над обидами и возмущением» (и, что чрезвычайно характерно для нашего времени, — в книге гея о геях):
«Нет грешного и божественного отцовского «они». Есть только братья и сестры, такие же, как и мы сами: слабые жертвы и деятели противоречивого и часто жестокого братства, в основе которого лежит братоубийство. Итак, какие можно сделать выводы? Именно то, что сам Бог, Создатель вселенной, определенно говорил с нами как брат, позволило нам постепенно осознать, что матрица всей нашей социальной жизни — исключительно братская. Единственный подлинно божественный голос, который мы когда-либо слышали или услышим, говорил с нами не из-за облаков, с отцовской таинственностью, требуя жертвоприношения, устанавливая запреты или ограничения. Единственный подлинно божественный голос, который мы когда-либо слышали, научил нас уходить от всего этого, говоря с нами исключительно на братском уровне. Поэтому Иисус (как и многие другие еврейские толкователи Священного Писания до и после Него) видит в учениях Авраама, Моисея и пророков доказательства того, что они выступали против жертвоприношения, и рассматривает их как братьев, равных нам. Это значит, что нет святого отцовского учения, нет такого отцовского голоса, которому мы должны уделять внимание, независимо от голоса братского. В Евангелиях отцовский голос Бога появляется независимо от Иисуса исключительно для того, чтобы показать, что именно Его мы должны слушать и что в Нем заключена слава Господа. Разумеется, я не имею в виду, что учения о Боге Отце нет в христианской вере. На самом деле в конечном счете едва ли есть что-то кроме него! Так, разумеется, в Новом Завете присутствует огромное количество важнейших для христианской веры учений о том, как молиться Отцу, как подражать Отцу, о вознаграждении Отцом и так далее. Мысль, которую я хочу донести до вас, заключается в том, что всему этому нас учит ни в коем случае не отцовский, а исключительно братский голос. Потому что, если мы должны позволить себе быть любимыми Отцом, которому абсолютно чужд дух соперничества, который желает милости, а не жертв, нам удастся это сделать только через постижение нового вида братства. Конечно, мы надеемся узнать, что Отец любит всех нас одинаково, не допуская никакой вражды и соперничества, а голос, ведущий нас к этому знанию, — это голос исключительно братский, и он освобождает наших братьев и сестер от чувства ревности по отношению друг к другу и от братоубийства. Если нас будет учить отцовский голос, в нем будет слишком много противоречивых отголосков, относящихся к прежним культурным традициям. Он будет ограничивать «допустимое» для нас братство, и мы в конце концов обнаружим, что этот голос не был божественным».
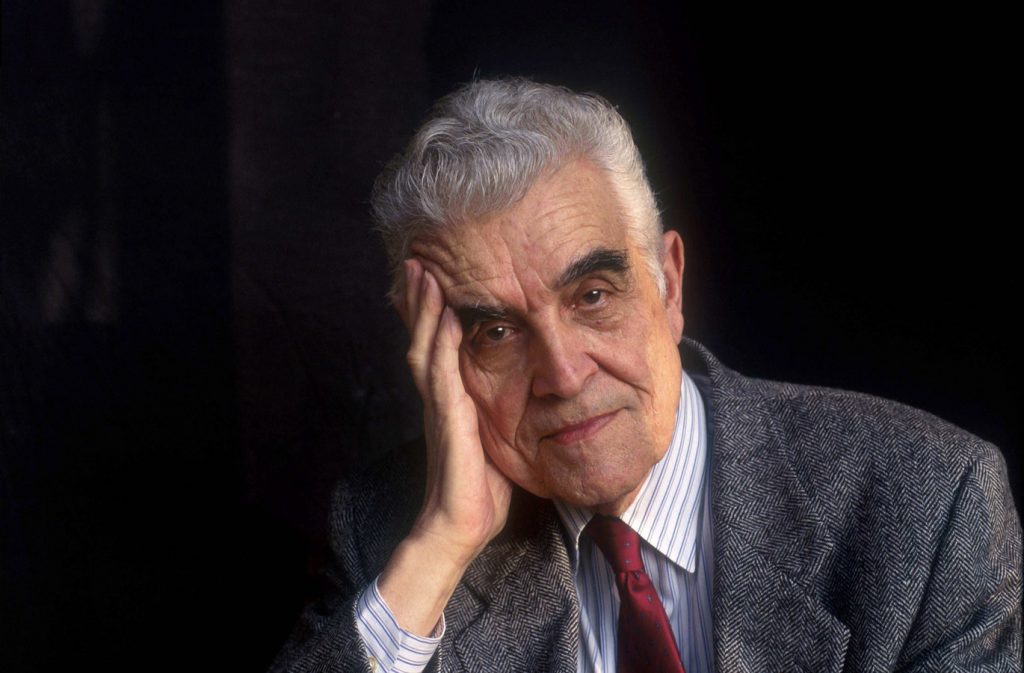
Я не знаю, как донести важность этой мысли. Христианство — как можно было бы догадаться из названия — религия Христа. А Христос — нам не Отец, а Брат. Сын — совершенный образ Отца, то есть Отца мы знаем в Сыне, который нам — Брат. Так Евангелие ломает Отцовскую метафору: Отца, который нивелирует всякое земное отцовство, мы познаём только в Его Сыне, то есть — в нашем Брате. Нет другого хода к Отцу, кроме как через Брата: «Любящий Господа прежде возлюбил своего брата; ибо второе служит доказательством первого», или моё любимое: «вижу лицо брата моего — вижу лицо Господа моего!». Так все, кого мы называем отцами, — не отцы, а братья, братья-убийцы или братья-жертвы. Мой биологический отец — мне брат перед Лицом нашего общего Вечносущего Отца, и это нам открыл наш Брат Иисус:
Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.
Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»?
Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего.
Дальше Алисон:
«Не существует земного отцовства, способного отразить в себе Бога. Мы можем присоединиться к Божьему отцовству, лишь научившись братству с Иисусом, который стоит на одном уровне с нами, будучи человеком. Только осознав все это, мы начинаем понимать, что отцовство в этом мире является не отцовством в божественном смысле, а братоубийственным братством, рядящимся в одежды отцовства. Именно это Иисус говорит своим собеседникам, отвергающим Его учение о том, что Отец Его не принадлежит к той группе, к которой они причисляют себя, именуя себя сыновьями Авраама: Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины (Ин 8:44). Позвольте мне настоять на том, что из этой фразы следует настоящий прорыв в области антропологии. Когда мы берем любую форму земного отцовства, стремясь определить свое происхождение по отцу, мы игнорируем то, что элементом, который лежит в основе людского рода на земле с самого начала, было убийство Авеля Каином. Любое человеческое отцовство происходит из братоубийства и, будучи таковым, не способно на правду, потому что всегда будет защищать себя от «другого».
Приобщиться к Небесному Отцовству можно только скинув власть Мёртвого отца. Эта странная омонимия чрезвычайно похожа на уже разработанную нами омонимию символической кастрации и христианского скопчества: и не удивительно, ведь это та же самая мысль, выведенная по-другому. В конце концов, эти наши омонимии восходят к главной религиозной омонимии: «богов» и «Бога», бога века сего и Бога, Князя мира сего и Господа. У нас есть только вот такой язык: язык грехопадения, язык, сформированный миром сим; другого просто нет и поэтому случаи такой омонимии постоянны. Так, например, все религии поклоняются жертве, но язычники — убийству, а христиане — Убитому. Омонимия жертвы, которую мы выше проследили, на деле знаменует две противоположности. Движение от одной к другой можно передать так: мёртвый-отец → убитый-отец → убитый-брат → воскресший-брат.
Мне кажется чем-то совершенно чудесным, что всё это Фёдоров понимал-не-понимая, почти сказал и не сказал: его тезисом было воскрешение отцов вместо воскрешения братьев. Надо чуть-чуть повернуть его фантастические писания, чтобы они выстроились в четкий, здравый, христианский дискурс.
Бог – домохозяин, не царь
К путям освобождения, намеченным Фёдоровым, мы перейдём через расширенный вариант Отцовской метафоры — метафоры домохозяйства.
Для начала надо сказать, что основа фёдоровского учения вполне святоотеческая. Человечество, говорит Фёдоров, создано как семья, а не как система господства; последняя — от греха. То же самое утверждает, например, Симеон Новый Богослов:
«Премудрый и всеблагий Бог, для бытия в мире сем, создал отца и сына, но не раба и наемника. Ни первый отец наш не был рабом, или наемником, ни первый сын. Ибо кому бы они были рабами и наемниками? Рабство и наемничество явились уже после: рабство произошло от вражды людей между собою, по коей начали воевать друг против друга, и друг друга порабощать; а наемничество от бедности и недостатков, кои одолевать начали слабейших по причине жадности и корыстолюбия сильнейших. Таким образом и раб и наемник произошли от греха и зла, воцарившихся среди людей: ибо без насилия и бедности ни рабом никто бы не был, ни наемником. Кому придет желание быть ими, когда рабы и наемники не то делают, что хотят и что им нравится, но то, что хотят их господа? Причиною сего — диавол, злая умная сила, от Бога отступившая».
Итак, человечество в идеале — семейственность, родственность. Вся совокупность зла может быть характеризована как неродственность и господство. Процитируем ещё раз «Софию» Соловьёва:
«Элемент иерархический — мужеский, элемент демократический — женский. Демократический элемент необходимо представляется женщинами, так что последовательная демократия есть необходимо гинекократия. Если всякая государственная или политическая деятельность, основанная на праве и законе, имеет специфически мужеский характер, то деятельность экономическая или хозяйственная, бесспорно, принадлежит женщинам; как в частном союзе — семье — хозяйками всегда были женщины, так они же должны быть хозяйками и всемирного общества. Отсюда естественное сродство социализма с так называемым женским вопросом и необходимое в будущем превращение социальной демократии в гинекократию».
Гендерную проблематику этого отрывка трогать не будем, а отметим противопоставление иерархического, политического — экономическому, семейному, социалистическому. В свой черед, библеист Кроссан в «Ужасе и надежде» пишет:
«Понятие – «дистрибутивное правосудие». Как в библейском Израиле и Иудее его стали применять к Богу? Для Древнего мира оно было ничуть не более естественным, чем для нас. Оно не обусловлено ни воображаемой возможностью, ни абстрактной теорией гражданских прав (или демократических прав, или прав человека). Оно возникло из конкретной и ощутимой реальности семейных прав. Нормальный крестьянский дом, с его ролями, правами, и обязанностями, был в библейской традиции метафорой того, как должен управляться мир в целом и страна в частности.
Вот почему Бог творит «суд и правду на земле» (Иер 9:24), и царь должен «производить суд и правду на земле» (Иер 23:5; 33:15). И в доме, и в стране, и на земле в целом должны торжествовать дистрибутивное правосудие и восстанавливающая справедливость. Соответственно, библейская традиция говорит, что иногда (скажем, при исходе из Египта) допустима крайняя бедность, но никогда не допустимо – крайнее неравенство. Можно ли помыслить, что мы войдем в крестьянский дом и увидим, что одни дети голодают, а другие бесятся с жиру? Это было бы чудовищно. Стало быть, Бог требует справедливости для всех.
(Кстати, в рамках стандартной патриархальности хозяином дома считался «Отец». Но поскольку в I веке каждый третий ребенок к пятнадцати годам оставался без отца, это может быть не только патриархальностью, но и ностальгией. Как бы то ни было, отметим, что официальная христианская молитва обращается к «Отцу нашему» (Хозяину дома), и лишь потом упоминает о Царстве)».
В «Величайшей молитве» Кроссан в соавторстве с другим библеистом Боргом пишет на ту же тему:
«Когда библейская традиция провозглашает революционное видение распределительной справедливости, она не представляет, конечно, ни либерально–демократических принципов, ни универсальных прав человека. Вместо этого ее видение проистекает из общего опыта хорошо управляемого дома, домашнего хозяйства или семейной фермы.
Именно видение хорошо управляемого домашнего хозяйства, семейного достатка, обеспечиваемого праведным и справедливым управлением, — библейская традиция относит к Богу. Бог является домостроителем мирового домохозяйства, и все предшествующие вопросы должны повторяться в глобальном и космическом масштабах. Достаточно ли всего необходимого у всех детей Божьих? Если нет, и библейский ответ «нет», то, что и как должно измениться, чтобы все люди Бога имели справедливую, честную и достаточную пропорцию Божьего мира? Молитва Господня провозглашает эти необходимые изменения, как в форме революционного манифеста, так и в форме гимна надежды.
Но пусть никто из вас не подумает, что это либерализм, социализм или коммунизм. Это — если вам нужен термин с концовкой — изм, то тогда это может быть БОГ-изм, Домохозяйств-изм или, лучше всего, Достаток-изм (Enoughism). Мы иногда называем это библейским видением Мирового Домохозяйства Божьего, но, на самом деле, Enoughism будет более точным описанием этого принципа».
Отметим две вещи: библейская концепция Божественной справедливости — домохозяйство; Молитва Господня имеет тот вид, который имеет, возможно, в силу распространения безотцовщины (то есть провисания Отцовской метафоры у адептов раннего христианства; как у Фёдорова с его незаконнорожденностью).
Наконец, Агамбен в «Царстве и Славе» утверждает, что христианская теология основана на замене политической парадигмы, характерной для Античности, на экономическую парадигму, характерную для современности (собственно христианская теология, по Агамбену, и была тем оператором, что перевел западное человечество из Античности в современность; чтобы не плодить цитаты, просто вспомяните, какое значение имеет для теологии термин «икономия», то есть — экономика). Агамбен идёт за Фуко, который утверждал, что именно в модели христианского пастырства, в его отличии от политической власти, родилось «управленчество» — современная модель власти, отличающаяся от классического господства. Что принципиально, Фуко видит место рождения этих вещей в христианских монастырях. В видении христианской теологии Бог управляет миром не как государством, а как домом; Он — «экономист», а не «политик», скорее «домохозяин», чем «царь», скорее «отец», чем «владыка».
Подоплекой смены парадигм была специфически христианская проблема свободы: политическая парадигма говорит о подчинении, а не о свободе; теологии надо было изобрести модель Божественного правления миром, не противоречащую свободе людей («управление без господства» — есть такое выражение у Вебера); такой моделью стала икономия, ставшая — если верить Агамбену — образцом современных управленческих практик.
Напомним нечто, что часто в наши дни забывают: марксизм не есть государственническая идеология, он есть доведенный до предела экономизм и учение об отмирании государства, об уничтожении системы господства, об утверждении системы мирового домохозяйства. Марксизм есть теория действительной — не на словах, а на деле — замены политической парадигмы на экономическую парадигму, то есть теория воплощения христианской теологии в действительность. Юрий Слёзкин, «Дом правительства»:
«Партиями принято называть организации, конкурирующие за власть в рамках данного общества. Ни одна из социалистических партий начала XX века не конкурировала за власть в Российской империи. Их целью было уничтожение империи во имя «царства свободы», понимаемого как жизнь без политики. Это были группы единоверцев, противостоящие развращенному миру, посвятившие себя униженным и оскорбленным и объединенные чувством избранности и идеалами братства и аскетизма. Иначе говоря, это были секты».
Тезис общинности плюс антитезис свободы
Ныне политическая и экономическая парадигмы выглядят следующим образом. Политически в либеральных демократиях каждый индивид позиционируется как самодовлеющий индивид, равный со всеми другими — то есть равенство как бы уже победило, принцип господства как бы уже преодолен. Экономически же — то есть реально — все индивиды связны друг с другом тысячью нитей — таким образом, что меньшинство собственников правит большинством работников. Марксизм же есть учение о торжестве демократического принципа в реальной жизни, то есть в экономике: демократизация экономики приведет к отмиранию государства, в том числе либеральной демократии, отмиранию господства как принципа.
Свяжем вышеуказанное. Родовая община, общество-семья, где социальные связи тожественны с семейными, стая хомо сапиенс и её расширение и развитие — вот первая, «родоплеменная», формация. В ней зачаточно сосредоточены все аспекты человеческого феномена: его субъективность, ибо человек уже есть, его биология (род), власть, социальность и пр. Родовая община остается существенным элементом азиатского, рабовладельческого, феодального способов производства, хотя в этих способах появляются уже независимые от неё реальности — в частности принцип господства, который в стае полностью отождествлен с отцовством («царь» и пр. — «отец» уже не в биологическом, а в идеологическом смысле).
Только капитализм полностью уничтожает общину. Капиталистическое общество — совокупность атомизированных индивидов, связанных отнюдь не родственно (Фёдоров, напомню, занимается причинами не-родственности людей). Но в рамках намеченной нами до этого диалектики Лосева и Соловьёва — разрушение связей капитализмом есть негативное условие нового единства. Родовая община объединяет людей не по человечески, не как самосознающих свободных духовных существ, а по крови — то есть биологически, как животных. Эти не-человеческие связи следует разорвать, чтобы соединить людей уже в качестве людей — свободно, духовно. Родовая община — тезис; капитализм, атомизированные индивиды — антитезис. Социалистический синтез создаст общину свободных. То есть от «родовой общины» останется «община» и будет уничтожен «род».
Диалектика в том, что для разрушения рода нужно было выделение принципа господства, который будет уничтожен при достижении свободной общины (икономия заменит политию). Социалистический синтез свободной общины = тезис общинности (родовая община минус род) + антитезис свободы (капитализм минус господство). Первообразец такой общины — христианская экклесия с её общностью имуществ; свободная община братьев не по крови, а по духу с общей — как бы домашней — экономикой.
Человечество явилось как маленькие родовые общины; развитие производительных сил привело к неравенству, образованию классов («рабов и наемников» по Симеону Новому Богослову), разрушению родовой общины. Государство, то есть политический принцип, закрепляет классовое деление; диалектика в том, что по мере развития классового общества, то есть расслоения, растет и ассоциация: рода сбиваются в племена, племена в народы, народы в глобальный миропорядок; угнетение при этом снижается от рабовладения через крепостничество к наемному труду; при этом именно общество наемного труда — самого «гуманного», «свободного» угнетения — окончательно разрушает родовую общину; но именно оно окончательно объединяет человечество в единую капиталистическую миросистему. Следовательно, уничтожив её, человечество уничтожит классовое общество как таковое, то есть и государство, политический принцип как таковой. Таким образом, всё человечество обратится в единую не-родовую общину, не знающую классов, господства, угнетения; икономия восторжествует над политией.
Священное Писание вкратце задаёт программу этих изменений в истории движения от родовой, кровной общины Авраама к духовной не-родовой общине Иисуса (или, если угодно, от братоубийцы Каина до Иисуса, создателя не-кровных не-государственных общин братьев по духу).
Иными словами икономический принцип предполагает «восстановление» общины при уничтожении рода, а не просто восстановление родовой общины, как думал Фёдоров, к которому мы после этого экскурса возвращаемся: проблема не в не-родственности, как казалось Фёдорову, проблема в не-общности. Но в силу вышеуказанных причин Фёдоров не мог так сказать. Этот апологет рода не мог признать род средоточием всех смертоносных сил как главную мирскую стихию: ближайшую к человеку стихию природы, которую — природу — надо победить.




