Как можно верить в Бога в мире компьютеров, ядерных станций, космических ракет и прочих чудес техники? Никак, — отвечает обывательское сознание: атеистическое, и, к сожалению, часто и христианское. Многим кажется, что техника и вера как-то не сходятся: они из разных миров, вера «не нужна», она «лишняя» сейчас. Что на это можно ответить?
Самым общим образом все человеческие общества можно поделить на традиционные и современное. И современное общество примечательным образом рождено христианством. Атеизм и нигилизм, капитализм и социализм, права человека и демократия, равноправие полов и сексуальная революция, наука и техника — все это появилось не где-нибудь, а именно в христианском мире. Или точнее: современность есть продукт противоборства христианства и традиции, плавающий зыбкий компромисс меж ними. Вам не нравится современный мир? — станьте мусульманином, буддистом, язычником, кем угодно. Но коли вы уж христианин, надо осознать свою сцепку с современностью. Или вам кажется, что христианство отжило свое, вредит современности? — тогда вам надо продумать роль христианства в формировании современности.
Посмотрим, как это работает на примере наукотехники. На простейшем уровне мы могли бы сослаться на Вебера: библейская традиция «расколдовывает» мир, уничтожает магизм, создает саму возможность для науки и техники. Наши авторы, соглашаясь с этим, идут дальше.
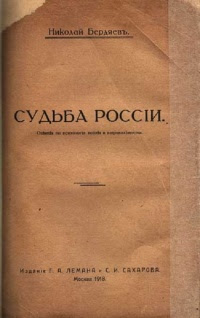 «Дух и машина» — блестящая статья Бердяева. Машина убивает дух, «обесчеловечивает»? Напротив, машина — союзник духа:
«Дух и машина» — блестящая статья Бердяева. Машина убивает дух, «обесчеловечивает»? Напротив, машина — союзник духа:
«Сделался шаблонным в религиозной мысли тот взгляд, что машина умерщвляет дух. Но глубже та истина, что машина умерщвляет материю и от противного способствует освобождению духа. За материализацией скрыта дематериализация. С вхождением машины в человеческую жизнь умерщвляется не дух, а плоть, старый синтез плотской жизни. Тяжесть и скованность материального мира как бы выделяется и переходит в машину. И от этого облегчается мир».
 «Ракета и стартовая площадка, или Скачок из воображаемого во внешнее пространство, именуемое “реальностью”» (пер. А. Секацкого) — отталкиваясь от полета на Луну, Гигерич как бы отвечает на глупость Хрущева, по-юродски наивно понимая ее, «в космос летал, а Бога не видел» и выводит само понятие «реальности», «фактичности» — основы столь фундаментальной для нас, что мы ее не видим — из абсолютного ФАКТА воскресения Христа. Христос представляет собой нулевую точку реальности, первый факт, давший возможность выйти из языческой мути, тем самым — помимо прочего — создавший возможность науки, техники — ракеты.
«Ракета и стартовая площадка, или Скачок из воображаемого во внешнее пространство, именуемое “реальностью”» (пер. А. Секацкого) — отталкиваясь от полета на Луну, Гигерич как бы отвечает на глупость Хрущева, по-юродски наивно понимая ее, «в космос летал, а Бога не видел» и выводит само понятие «реальности», «фактичности» — основы столь фундаментальной для нас, что мы ее не видим — из абсолютного ФАКТА воскресения Христа. Христос представляет собой нулевую точку реальности, первый факт, давший возможность выйти из языческой мути, тем самым — помимо прочего — создавший возможность науки, техники — ракеты.
 «Астронавтика креста» и «Третья ступень» — два эссе, где Секацкий продолжает мысли Гигерича. «Ракета, стартующая с космодрома, выбрана не случайно, мы еще увидим, что космический полет есть прямое богословское действие, хотя и далеко отстоящее от канонического богословия первых веков христианства» — это (основание Факта и следующие за ним наука и техника) лишь один из примеров «прямого богословского действия».
«Астронавтика креста» и «Третья ступень» — два эссе, где Секацкий продолжает мысли Гигерича. «Ракета, стартующая с космодрома, выбрана не случайно, мы еще увидим, что космический полет есть прямое богословское действие, хотя и далеко отстоящее от канонического богословия первых веков христианства» — это (основание Факта и следующие за ним наука и техника) лишь один из примеров «прямого богословского действия».
«Киберпространство и проблема спасения» — это эссе является вариантом «Третьей ступени» (или наоборот). По Секацкому, задачу, поставленную христианскими аскетами, решает киберпанк.
«Ревизия тела и ситуация современности» — и снова Секацкий задается вопросами связи христианства, науки, техники в данном случае в перспективе пересборки тела — т. е. биотехнологий, генетики и пр. «Только христианство санкционировало науку как новую форму знания, оно же определило феномен прогресса, немыслимый для традиционных способов трансляции знания-мудрости. Точно так же идея меняющегося, все время обновляемого тела является сущностно христианской, хотя и сегодня ее реализуют последние мира сего: киберпанки, представители других радикальных субкультур».
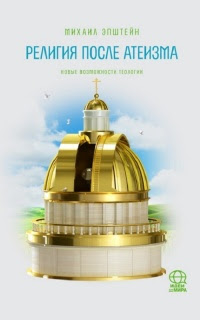 В «Религии после атеизма» Эпштейн развивает научно-технический аргумент бытия Бога. Обычно считается, что в прежние века верить в Бога было легко, а с приходом техники — трудно, если не невозможно. Напротив, по мнению Эпштейна, современная техника подводит человека к Богу:
В «Религии после атеизма» Эпштейн развивает научно-технический аргумент бытия Бога. Обычно считается, что в прежние века верить в Бога было легко, а с приходом техники — трудно, если не невозможно. Напротив, по мнению Эпштейна, современная техника подводит человека к Богу:
«Пока существовали лишь художественно-условные подобия реальности (картины, скульптуры), очевидна была разница между рукотворными созданиями и вселенной, и вероятнее было предположить, что она не сотворена, ибо трудно разуму представить такую мощь созидания. Но если онтология наших виртуальных миров по своей сложности и чувственной достоверности начинает приближаться к онтологии реального мира, то сотворенность этого последнего, в том числе нас самих, становится все более вероятной.
Рудольф Отто в своей книге «Священное» называет «чувство своей тварности» первым признаком отношения человека к священному, поскольку оно предполагает всемогущество Творца. В этом смысле стремительное развитие техносферы способствует увеличению «священного» в нашей цивилизации, поскольку чувство собственных творческих возможностей неизбежно перерастает в осознание силы Творца, превышающей наши возможности.
Все труднее представить мир без Бога — таков главный вывод всей техноэволюции человечества. То, что мы сами сможем становиться созидателями жизни и разума (к чему постепенно, пусть и без гарантий успеха, подводит нас современная техника), послужит самым сильным доказательством бытия Бога, хотя вера и не нуждается в таких доказательствах».
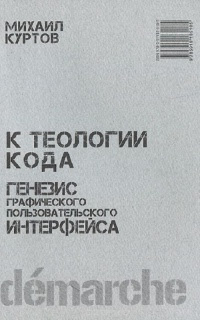 В своей книге «Генезис графического пользовательского интерфейса. К теологии кода» Михаил Куртов проводит аналогию между историей информатики и эволюцией христианской теологии. Несмотря на всю спорность тезисов, «К теологии кода» — бесценная находка для всех, кто пытается думать над взаимоотношениями техники и религии.
В своей книге «Генезис графического пользовательского интерфейса. К теологии кода» Михаил Куртов проводит аналогию между историей информатики и эволюцией христианской теологии. Несмотря на всю спорность тезисов, «К теологии кода» — бесценная находка для всех, кто пытается думать над взаимоотношениями техники и религии.
«Теология, обнаруженная в самом сердце кода, — соблазн для богослова и безумие для программиста. Тем не менее наша работа следует общей тенденции в гуманитарных науках в исследованиях той остаточной структуры теологического знания, которая скрытым образом присутствует в современной культуре и обществе. Бог как предмет коллективной веры умер, но Его структура оказалась персистентной: теология сохранилась в скелете общества-культуры подобно тому, как оседают в костях тяжелые металлы. Если наша гипотеза верна, то в XXI в. теология станет для computer science тем же, чем математика стала для естественных наук в XVII в. Вопрос о том, как истолковать это присутствие теологии в коде — как последнюю страницу в истории умирания Бога или как Его новое рождение в вещах, — мы оставляем открытым».
 Джанни Ваттимо в «После христианства», где он исследует как христианство сформировало современность, говорит в том числе и о технике:
Джанни Ваттимо в «После христианства», где он исследует как христианство сформировало современность, говорит в том числе и о технике:
«До тех пор, пока была возможна вера в то, что в мире царит умопостигаемый порядок, вера в царство сущностей, лежащее по ту сторону эмпирической действительности, гарантирующее постижимость вещей и даже их критику, — до этих пор была возможна и метафизика. Но само развитие современных наук, приведшее, по сути, к тому, что истина, пребывавшая прежде в мире платоновских идей, становится той разновидностью объективности, которая присуща исключительно физическим пропозициям, одновременно приводит к самоопровержению метафизики; метафизика сама себя разоблачает и предстает как устаревшая вера (и как раз поэтому такая вера лишена какой бы то ни было практической пользы), ибо тот идеальный порядок, к которому она всегда была обращена, превратился, по крайней мере, это справедливо для ситуации в целом, в тот действительный порядок, который характеризует рационализированный мир современного технологического общества. Этот порядок делает практически невозможным существование как экзистенцию — то есть как проективность, открытость, непредсказуемость и свободу; но, аналогичным образом, он не делает существование непостижимым с теоретической точки зрения, ибо если подлинным бытием является та объективная природа, которая выявлена наукой и кодифицирована в законах физики, то в таком случае именно экзистенция оказывается лишенной всего, что позволяет ее мыслить как бытие.»
Так Ваттимо описывает «смерть Бога» (Ницше), «завершение метафизики» (Хайдеггер) в их связи с наукотехникой. Для христианства это означает новые возможности:
«В нашем повседневном опыте мы обнаруживаем многочисленные свидетельства того, что наш мир — это и есть тот мир, в котором умер и предан земле «нравственный» Бог, то есть, похоронено метафизическое основание. Но речь–то как раз идет о том Боге, которого Паскаль называл Богом философов. И, похоже, многое действительно указывает на то, что смерть именно этого Бога, возможно, и могла бы расчистить почву для новой жизнеспособной религии».
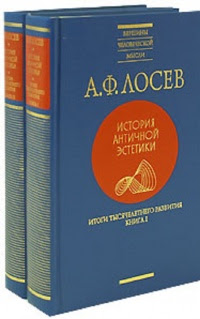 В «Итогах тысячелетнего развития», завершающих грандиозную «Историю античной эстетики», Лосев исследует переход от Античности к Средневековью, то есть от традиционного общества к современному, от язычества к христианству. В массовом сознании есть миф, что Античность поддерживала науку, а Средневековье — нет. Лосев же доказывает, что все наоборот. Античность — время рабовладения, то есть в плане своего принципа — вещи. Феодализм/капитализм/социализм (современное общество на разных этапах) имеет своим принципом личность. Поэтому в Античности не было наукотехники:
В «Итогах тысячелетнего развития», завершающих грандиозную «Историю античной эстетики», Лосев исследует переход от Античности к Средневековью, то есть от традиционного общества к современному, от язычества к христианству. В массовом сознании есть миф, что Античность поддерживала науку, а Средневековье — нет. Лосев же доказывает, что все наоборот. Античность — время рабовладения, то есть в плане своего принципа — вещи. Феодализм/капитализм/социализм (современное общество на разных этапах) имеет своим принципом личность. Поэтому в Античности не было наукотехники:
«Если бы греческому гению было свойственно машинно-техническое мышление, то все эти жизненные потребности растущего полиса могли бы удовлетворяться средствами машинного производства. Но такого машинного производства, которое имело бы существенное экономическое значение, никак не могло быть в пределах рабовладельческой формации. Если основным производителем был раб, то есть живой организм с минимальной затратой умственных способностей, а организаторами рабского труда являлись рабовладельцы, у которых тоже рациональное мышление было только примитивным, то ясно, что техника не могла иметь здесь существенного значения. Единственным выходом из положения было только непрестанное увеличение количества рабов».
С христианством же в мир явилась идея личности, подразумевающая другое общественное устройство, в частности — активность, импульс к переделыванию мира:
«В эпоху Средневековья вся действительность мыслилась в состоянии грехопадения, и этот первородный грех настоятельно требовал своего окончательного переделывания и преодоления. В Новое время перестали верить в первородный грех, но зато начинали верить в абсолютизированный человеческий субъект. И нужно опять существенно переделывать жизнь, чтобы открыть просторы для свободного развития человека. Но в античности было совсем другое ощущение жизни. Даже гениальный Аристотель делил людей на свободных по природе и на рабов по природе. Рабовладение было не только действительностью, но и нормой, идеалом, и переделывать тут было совершенно нечего».
Античность — обожествленный космос, его переделывать не надо: там нет место технике. Средневековье/Новое время — принцип личности, противостоящей космосу: здесь есть место технике, активности субъекта по отношению к миру.
 Александр Кожев свое знаменитое эссе «Христианское происхождение науки» (он атеист, и в ангажированности заподозрить его нельзя) начинает так:
Александр Кожев свое знаменитое эссе «Христианское происхождение науки» (он атеист, и в ангажированности заподозрить его нельзя) начинает так:
«Найдется немного исторических фактов столь же трудно оспоримых, как факт взаимозависимости науки, современной техники, христианской религии и даже теологии. Дабы убедиться в этом, достаточно отметить, что невероятно быстрое развитие современной техники со всей очевидностью предполагает теоретическую науку всеобщего характера».
Начало же такой науки — коперниковская революция, которую в массовом сознании считают началом отхода от христианства и победного шествия материализма. Поняв переворот Коперника, мы поймем исток наукотехники. По Кожеву, коперниковская революция есть просто-напросто следствие христианской теологии.
Гелиоцентризм Коперника противостоит геоцентризму Птолемея, языческого ученого. «Земля в центре» — это совсем не комплимент, как почему-то думают, — это означает, что Земля вне Неба, Земля — помойка бытия. Античный Космос есть сфера, где все вокруг — блаженное Небо, а все что ближе к центру, — вселенский мусор. Земля, наш мир, человечество — вне Неба.
Бог стал человеком, Небо объединилось с Землей; Христос вознес человеческую природу на Небо. Таков главный догмат христианства. Гелиоцентризм Коперника тем самым есть просто по-христиански понятая космология: перенесение Земли на Небо, становление Земли небесным телом. И здесь открылась возможность наукотехники.
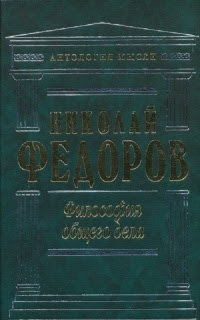 «Философия общего дела» Федорова — радикальная философия техники, где она осмыслена как эсхатологическая сила. Главной темой Федорова, его мукой была трагедия человеческой разъединенности. «Словами», проповедями ее не победишь. Нужно «общее дело», которое объединит человечество. Предел разъединения — смерть, а именно — смерть всех отцов, ведь сыновья живут за счет смерти отца (эта мысль сближает Федорова с Фрейдом). «Общее дело», таким образом, должно заключаться в воскрешении всех отцов — опять же не как «грезы», а как конкретного действия: силами наукотехники должно воскресить всех мертвых. «Общее дело» — богословие прямого действия, христианство не как «греза», а как «проект». Техника как средство всеобщего воскресения, Апокалипсис через технику — вряд ли можно придать технике больший богословский статус.
«Философия общего дела» Федорова — радикальная философия техники, где она осмыслена как эсхатологическая сила. Главной темой Федорова, его мукой была трагедия человеческой разъединенности. «Словами», проповедями ее не победишь. Нужно «общее дело», которое объединит человечество. Предел разъединения — смерть, а именно — смерть всех отцов, ведь сыновья живут за счет смерти отца (эта мысль сближает Федорова с Фрейдом). «Общее дело», таким образом, должно заключаться в воскрешении всех отцов — опять же не как «грезы», а как конкретного действия: силами наукотехники должно воскресить всех мертвых. «Общее дело» — богословие прямого действия, христианство не как «греза», а как «проект». Техника как средство всеобщего воскресения, Апокалипсис через технику — вряд ли можно придать технике больший богословский статус.
Разумеется, все это многим кажется бредом. Ответим на это, что делом философии является все же мышление, постановка вопросов, довольно часто в форме мифа (Платон — чтобы далеко не ходить). Заслуга Федорова состоит в самой постановке вопроса отношений христианства и техники, в частности — эсхатологии и техники, христианства как дела, действия, действительности, задачи, проекта, а не болтовни. С этим связана нравственная роль науки в современном обществе: общество грешно и наука как часть общества — служит греху; отсюда задача нравственной перестройки общества, обращения сил науки на «регуляцию природы», превращение «орудий разрушения» в «орудия созидания».
См. также подборку «30 книг о науке и религии».
Продолжая разговор о христианском генезисе современных реалий, советуем цикл лекций А. Десницкого «Библейские истоки современной концепции прав человека», а также наши старые статьи об атеизме, нигилизме, феминизме, революции, социализме.




