
Джорджо Агамбен — живой классик философии, и как не обрадоваться, что в центре современной мысли — для столь многих неожиданно, неуместно, даже скандально — оказывается христианское монашество. Пахомий Великий, Василий Великий, Бенедикт Нурсийский и т. д. — эти древние авторы, которых «никто не читает», — вдруг у «модного» философа, в только что переведенной на русский книге «Высочайшая бедность». Наверное же, монахи интересны всяким «теологам», ну, может, историкам, но не современной философии — неинтересны уже столько веков, с Ренессанса начиная (впрочем, «имеющие уши слышать да слышат»: христианство — принципиально важная тема для Фуко, Деррида, Жижека, Жирара…).
Общая жизнь
Агамбен считает, что христианское монашество есть нечто фундаментально актуальное для современного Запада. В монашестве был рожден ряд реалий и проблем, определяющих историю, современность и будущее Запада: отношения бытия и практики, отношение жизни и права, проблематика жизни вместе, специфическое переплетение — так никем и не развязанное — онтологии-жизни-политики-права-экономики. Всё это родилось в монашеской попытке общей жизни вне права и собственности, желающей стать всеохватывающей литургией. Не присвоение, а пользование — вот цель монашества и непреложная задача Запада. Монашество так переплетает этику-право-политику, что эти вещи не могут быть понятыми в современности без понимания монашества (17 — здесь и далее даю номер страницы, откуда взял пересказываемую мысль Агамбена: Джорджо Агамбен. «Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни», Издательство Института Гайдара, М. — СПб., 2020). Киновия есть вид политики, столь сильно определивший западную политику в целом, что и сейчас мы не видим всех её следствий (90).
Общая жизнь — вот совершенная, райская, радостная, святая, истинная жизнь, как она показана в Книге Деяний и как она практиковалась монахами. Монашество исходило из идеала всеохватывающей коммунитарной жизни (23–25). Совместная жизнь есть идеальный образ жизни, она сама по себе — добродетель (28). «Коммунитарная жизнь», — говорит Агамбен, а мог бы сказать «социалистическая», «коммунистическая», но так бы разговор политизировался бы в ту сторону, в какую Агамбен не хочет, политические темы он развернет по-другому.
«Общая жизнь», коммунитаризм, киновия — новация христианского монашества, Античность такого не знала. Аристотель, например, говорил об общности полиса, но не общей жизни (27). Коммунизм — изобретение монахов.
Монашество началось с анахоретов-одиночек, а пришло к киновии, сообществу монахов. Василий Великий, создатель правил восточнохристианского монашества, критиковал анахоретство: дары одиночки пропадают без пользы, а в сообществе дары каждого принадлежат всем, дары одних усиливают дары других (23–25). Но интересно, что идеал общей жизни родился из идеала жизни уединенной: как будто бы сначала надо бросить общество, создать независимую личность (монах — единица, инок — одиночка), чтобы потом такие личности создали новое сообщество, уже совсем другое, чем в миру. Сначала новый человек, потом сообщество новых людей. Антоний Великий уходит в пустыню один, а под конец создает сообщество.
Отречение от мира — есть начало нового сообщества. На основе писаний Филона Александрийского и Амвросия Медиоланского Агамбен реконструирует фигуру изгнания как литургии, изгнанник есть служитель Бога, изгнание есть основание новой политии (Авраам, монахи) (77–80). В античной философии тоже была тема изгнания: философ всегда есть чужестранец. Как часто подчеркивала раннехристианская мысль, то, о чем философия только говорила в кругу немногих, то христианство воплощает в массах.
И в создании сообщества общей жизни всё дело. Святые Отцы много критикуют даже анахоретов, а бродячих монахов за монахов просто не считают. Конфликт киновитов и монахов-бродяг есть политический конфликт проекта нового сообщества и тех, кто не создает его: всё дело в новой политике (27). Анахронистично можно здесь видеть прообраз конфликта коммунистов и анархистов. Книга Агамбена прекрасна много чем, в частности этим: Агамбен напоминает, что монашество — это не только и, может быть, не столько про аскетику, «духовность», а про новую политику, новую социальность. Спасение души, обретаемое в монашестве, обретается именно что в «общей жизни», в новой политике и социальности. Без них монашество — не монашество.
Не право, а жизнь-правило
«Коммунистическую» тему можно продолжить. Монашество «тоталитарно»: в монахе должны совпадать внутреннее и внешнее, добродетель и одежда, жизнь и правило (33). Индустриальное время, время расписаний и циферблатов, часов-минут-секунд, казалось бы, такая современная реалия есть изобретение монашества: следствие их попытки подчинить всю жизнь своему идеалу, все расписать, их «тоталитарной» интенции (часословы и пр.) (36–37).
Одна из главных тем книги Агамбена — соотношения жизни и правила (монашеского правила, шире — устава, права, закона, нормы). Христиане не рабы под Законом, а свободные под благодатью (такой формулой Августин начинает свои правила, которая сразу выводят их за пределы права): вот главное, что принес Христос. В Новом Завете «обездействуется» Закон, что рождает всё своеобразие западной политики (см. «Комментарий на Послание к Римлянам» Агамбена). Как может выглядеть сообщество, не по Закону живущее, а по благодати? Вот главный вопрос — главный вопрос монашества, главный вопрос Запада.
В христианстве, если брать широко, в монашестве, если брать уже, происходит дестабилизация жизни и права. Новая свободная благодатная жизнь желает жить вне права, откуда парадокс монашеских правил, которые есть право не-правовой жизни. Пример: монашеские правила предписывают определенные наказания за определенные проступки — это право; но с другой стороны, эти же правила вменяют жить по любви, наставлять советом и примером — и это уже не право (51).
Дестабилизация жизни-права приводит к буйству одного и другого. Попытка оформить отношения людей, живущих вне права, приводит к сверхрегламентации такой жизни: расписаны еда, одежда, труд и досуг, каждый час жизни. Подобные же примеры — и в этом неотменимость «тоталитаризма» любой утопии — мы находим в теориях и практиках социалистов. Совершенная свободная жизнь оборачивается сверхрегламентацией, казармой, попытка отказаться от права — сверхправом, пожирающим всю жизнь. Отказаться от правил таким образом, чтобы правила стали неотличимыми от жизни, самой жизнью породить совершенные правила — вот к чему стремится монашество. «Жизнь» и «право» съедут со своих позиций, чтобы создать то, что Агамбен называет «формой жизни».
Странные отношения жизни и правил привели к тому, что учреждение монашества стало первым примером конституции: добровольный союз, созданный с нуля, с оговоренными правами и обязанностями участников. Индивиды сошлись и договорились, как им жить вместе: такое впервые в реальности было у монахов; то, что описано у Руссо и Гоббса, — мифы (83).
Коренная черта права — наказания. В монашеских правилах наказания как бы нет: там есть ряд мер, понимающихся не как наказания, а как воспитательные меры, меры исправления, терапия, помощь (53). В монашестве рождается современное понимание тюрьмы: «исправительных лагерей» СССР с одной стороны, тюрем-«курортов» Скандинавии с другой: попытки выйти из пределов логики наказания преступников и войти в логику исправления, помощи преступникам. Таким образом, современные социальные системы, сам подход к морали и помощи, сейчас характеризуемый как «западный» или «современный», рожден монашеством. Пример: преступник не изгоняется из монастыря, то есть, несмотря на разработанную регламентацию проступков и санкций за них, монашеские правила — не право (56–57).
Франциск Ассизский: если не могу исправить пороки братьев примером и словом, то лучше ничего не сделаю, но главное — не стану палачом, как свойственно властям мира сего (142). Речь здесь о не-правовой форме жизни, предвосхищении западного, не-насильственного, «свободного» понимания морали.
Сами создатели монашеских правил понимали их не как право, а как искусство-технику-работу-ремесло спасения душ (55). Таким образом, монастырь — первое место, где жизнь была отождествлена с искусством: жизнь-практика, жизнь-художество (56).
Так, послушание, важнейшая для монашества вещь, — не юридическая реалия, а средство искусства искусств (аскетики) (64). Таким же образом, постриг — не юридическое обязательство (64–65).
Евангелие отменяет Закон. Евангельская свобода, христианская жизнь не может быть сформулирована в юридических терминах (а монахи — идеальные христиане) (73), поэтому монашеские правила не есть право (74). Вот что пытается нащупать Запад, с иудеохристианства начиная и до наших дней: свободное сообщество, сообщество, организованное не по закону, а по свободе. Вся суть в том, что Евангелие уничтожает не определенный закон, а саму форму закона, таким образом, монашеские правила есть попытка сформулировать форму жизни без закона. Здесь можно понять, почему Святые Отцы так настаивали на грехе клятвы, на заповеди «не клянись»: так подчеркивался не-правовой характер христианских отношений. Сам юридический акт (а клятва — юридический акт) есть грех недоверия, нелюбви к брату/сестре.
Монах обещает не соблюдать определенное право, а вести определенный образ жизни. Не правило, а жизнь согласно правилу (так что формально его можно даже нарушить) — вот суть монашества (85–86). Форма жизни и форма правила неразличимы в монашестве: жить в целомудрии без собственности — это образ жизни, но это и правило. Монах не слушается правила, но живет послушанием, не норма определяет жизнь, но жизнь формирует норму (92). Киновия предлагает себя как совершенное сообщество, при этом несводимое ни к праву, ни к морали, ни к предписанию, ни к совету, ни к добродетели, ни к науке, ни к искусству, ни к труду, ни к созерцанию (93). Не вера из правила, а правило веры из живой веры: не верим по Символу веры, но Символ веры есть концентрат веры христиан; опыт христианской жизни обобщается-символизируется в правиле (101). Таким же образом правила толкования Писания берутся не извне, а изнутри него, из самого Писания (102). В обоих случаях — первенство жизни, а не нормы. Монашеское правило — «правило» не в юридическом, а в грамматическом смысле: никто не предписывает языку правил, но «сам» язык их «свободно» из себя «создает» (148–149).
С другой стороны: правило созидает монашескую жизнь. Не правило применяется к жизни, но правило создает эту жизнь. Нет монашеской жизни отдельно, к которой применялось бы отдельное от неё правило. Тождество правила и жизни (103).
Правило давалось часто как описание жизни святого: святая жизнь сама по себе есть правило (104).
Таким образом, монашеское сообщество есть одновременно правило, учреждающее жизнь, и жизнь, учреждающее правило: утопическое сообщество, с нуля себе созидающее, сообщество-новизна (105). Киновия смещает этику с уровня действия и предписания на уровень формы жизни (106). Всё это можно проиллюстрировать самим текстом ранних монашеских правил: они презентуют себя как запись устного обсуждения монахов, решающих, как им жить, и предписывают читать вслух эти правила монахам. Эта диалектика устности-письма подчеркивает совпадение жизни и правила у монахов, жизненный, а не юридический характер правил (108–109).
Киновия как совершенное общество: общество всеохватывающей литургизации. Как сливаются правило и жизнь, так сливаются литургия и жизнь (119). Литургия этимологически — политическое, общественное, народное дело (121) — монашество есть политическая общность, чья жизнь становиться литургией, чтобы литургия стала жизнью (122–123). В литургии жизнь и норма совпадают (124).
Монах не живет ради исполнения закона или ритуала, ради поддержания космического или социального порядка (123–124). Он живет ради самой совершенной жизни — общей жизни.
Все эти описанные совпадения в форме жизни монахов имеют онтологическое измерение: совпадение бытия и действия, не эссенциалистский, а экзистенциальный взгляд, практический подход, примат жизни (123) — вещи, определяющие для западного мышления.
Всё это как минимум нужно учитывать, когда мы читаем монашеские уставы, всю эту регламентацию, вот это всё про послушание и пр. и пр.: надо понимать, что монашеские уставы суть не вариант права, а нечто крайне парадоксальное: попытка зафиксировать жизнь вне права.
Радость пользования без собственности
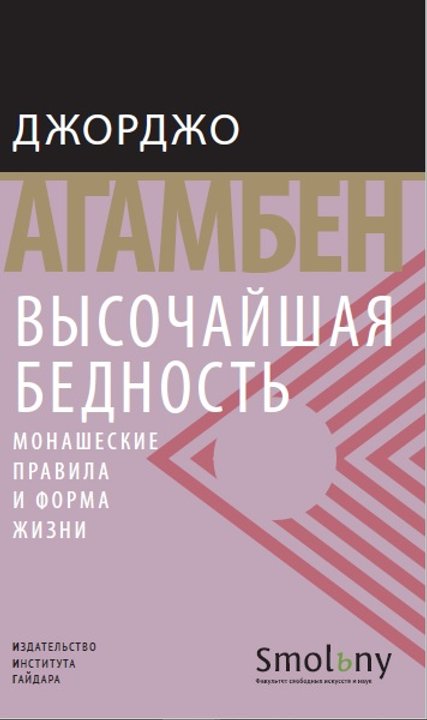
По Агамбену, монашество достигает пика в религиозных движениях XI–XII вв., во францисканстве прежде всего. Они занимались не теологическими вопросами, а проблемой нового рода жизни — совершенной христианской жизни, «апостольской жизни», «евангельской жизни». Бедность — ее характерная черта, причем бедность понимается не как аскетическое средство, а конститутивная черта святой, радостной, совершенной жизни (128–129). Бедность — черта не покаянной, а «апостольской», или «ангельской» жизни (130).
Суть этих религиозных движений не в тех или иных теологуменах, идеях, правилах, а в образе жизни, в практике (130). Отсюда стратегия курии в борьбе с ними: с одной стороны, ассимилировать часть движений внутри юридических структур Церкви, а с другой — анафематствовать другую часть движений: то, что не было юридической или теологической реалией, а формой жизни, вместить внутрь права и теологии (130–131).
Та же проблема в другой формулировке. Есть своего рода внутрицерковное напряжение: с одной стороны, форма жизни клира — клирик, каким бы плохим он ни был, все равно производит действенные таинства, плохой священник — все равно священник, жизнь субъекта и его служба разделены в клире. С другой стороны — форма жизни монашества: суть монаха в том, как он живет: плохой монах — не монах, служба субъекта и его жизнь отождествлены (164–165). В линии этого напряжения францисканство нашло свой способ церковности: клир — одна форма, «святая бедность» — другая. Радикально проведя это различие, именно в этой радикальности францисканцы смогли — или почти смогли — избежать конфликта с Церковью. Аналогичные движения, не проводя такого различия, рисковали, с одной стороны, сами объявить себя «истинной церковью», впасть в ересь, с другой — раствориться в Церкви, потерять себя (168).
Право и теология уводят от сути проблемы: речь шла не о том или другом понимании Евангелия, а о том, как практиковать Евангелие, жить по-евангельски, отождествиться с Евангелием. Не читать Евангелие, а жить Евангелием (131), следовать форме жизни Христа, где форма есть тождество образа жизни с образцом жизни (133).
Францисканцы хотели воплотить старую христианскую идею (выраженную, например, Василием Великим): правило есть сама жизнь Христа (138), таким образом, что суть не в правиле, а в следовании жизни и бедности Христа (139). Евангельская форма жизни — не правило, не догма, не канон, а образец, не редуцируемый к своду предписаний (144–146). Монашеское правило заключено в поступках, а не в письменном тексте, не в обетах, а в практике; нейтрализация друг в друге правила и жизни в монашеской форме жизни (150).
Суть францисканского (шире — вообще монашеского, вообще христианского) вопроса о бедности — жизнь вне права, без права: пользоваться благами без прав на эти блага (153–155). В этом монашеском жесте расплавляется одно из главных человеческих разделений — деление на людей и животных. Животные живут без права и собственности, с одной стороны, а с другой — известно очеловечивание животных во францисканстве (см. «Открытое» Агамбена) (154).
Исток идеи жизни без права и собственности — святоотеческое учение об изначальной общности благ: до грехопадения не было собственности, всё было общим (157). Бедность — не имя определенного имущественно-денежного положения, а имя формы жизни — не-правового, не-собственнического пользования какими угодно благами (158). Отсюда и имена для самого францисканского движения: меньшие братья, сироты, дети, безумцы — это всё те, кто имел право пользования, но не имел право собственности (155–156).
Суть контрфранцисканской аргументации курии: пользоваться вещами означает иметь их в собственности (159). На это францисканские теоретики отвечали: в случае крайней необходимости даже право допускает пользоваться какими угодно вещами. Францисканцы не владеют вещами, но пользуются ими по праву необходимости, то есть норма францисканской жизни — чрезвычайное положение (см. «Чрезвычайное положение» Агамбена) (159). Монашеские правила тем самым — право самой жизни по отношению к самой себе, а не право как регуляция отношений людей и вещей. Францисканство — радикальное исключение из права (161). В совершенной жизни христиан Христос должен быть всем; это создает тотальный конфликт с миром; необходимость пользования — порог между жизнью во Христе и миром (162).
Очевидно, что для сохранения жизни необходимо пользование, а не собственность (171): чтобы не умереть от голода, нужна еда, не важно «чья». От собственности можно отказаться, от пользования нельзя. Суть вопроса: право отвергается не изнутри права, хотя францисканцы постоянно оперировали правовыми терминами, а самой жизнью, практикой: речь не об идеях, а о жизни (173). Чистый факт потребления просто не нуждается в юридическом оформлении (174).
Конвентуалы (францисканское движение, полемизировавшее с францисканцами-спиритуалами) подчеркивали важный момент: совершенство состоит в отречении от обладания, а не в скудости. Собственно, это еще одна старая святоотеческая мысль: Златоуст, например, говорил, что многие праведники (Авраам, Иов) вполне себе наслаждались материальными благами, изобилием. Суть не в нищете, а в характере пользования, в не-грешности пользования. Так, например, конвентуалы указывали, что собственник-скупец вообще может не пользоваться своей собственностью в логике накопления! С другой стороны, отказаться от собственности — не значит отказаться от удовольствия пользования! (175). Может так быть, что собственник не живет в доме, которым «владеет», а живут в нем другие люди. Радость пользования теми или иными благами вообще открывается в пользовании, а в собственности радость пользования отчуждается. Дело не в удовольствии, изобилии и пр. — все это хорошо, если пользоваться праведно. Грешны не блага, грешна собственность на блага. В изначальной логике Творца все замышлялось общим, собственность вторична, случайна, не нужна — она от греха (182). Право излишне: даже право пользования по необходимости излишне, фундаментален — ибо он реален, он есть — факт пользования, а не то, что накрутили вокруг него грешники (185).
Здесь можно понять «классовую» сущность францисканских номинализма и волюнтаризма: собственность, власть, право, язык сами по себе не сущностны, они существуют как выражение воли и действий людей. Существуют люди и их дела: право, собственность, власть — лишь их фиксация, которую идеология преподносит как данную от вечности (188). Это францисканская критика консервативных теорий, а вот либеральных: первородный грех есть присвоение в частную собственность своей воли. Здесь содержится христианская критика либертарианскикой «самопринадлежности», либеральных «неотчуждаемых» прав человека и пр. (194) И консервативные, и либеральные теории исходят из понятия собственности, а собственность — грех: грешно считать, что люди кому-то принадлежат, так же, как грешно считать, что человек принадлежит себе: сама логика владения порочна. Совершенная жизнь есть общая жизнь без собственности и права в послушании-служении-любви друг другу.
И все же Агамбен считает францисканские теории не совершенными, ведь они — пусть негативно — отправляются от права, то есть не преодолевают право полностью. Агамбен предлагает усовершенствованную францисканскую теорию — следует говорить так: форма-жизни неприсваюващего пользования, согласно Павловой логике «как не». «И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего», — формулирует апостол Павел принцип христианской жизни в ожидании Христа. Это есть эсхатологическая форма жизни — победа жизни Христа, распространения формы жизни Христа на всё, Конец истории, аннигиляция всех правовых, политических, экономических и пр. понятий. Высочайшая бедность — последнее, совершенное, окончательное: конец собственности, конец права, торжество христианства (194–195).
Постскриптум
Утопическое сообщество без права и собственности — что можно сказать об этой попытке монахов и теме размышлений Агамбена? Собственность есть отношение внутри классового общества. Право есть фиксация этого отношения. Власть есть аппарат насилия для поддержания этого отношения. Идеология есть ложное сознание, призванное «освятить» всё это. Ликвидируя классовое общество, вы уничтожаете собственность, право, власть, идеологию — и наслаждаетесь «личной собственностью» лично и «общей собственностью» сообща. Наслаждаетесь свободой и расцветом человечности, ибо только при ликвидации классового общества человечность к людям вернется из отчуждения. Вот несколько классических марксистских формулировок, которые, как вы понимаете, полностью совпадают с монашеским предприятием. Марксизм есть «светская» версия монашества, программа монахов, переведенная на язык политэкономии.
Монашеские обеты послушания, бедности и целомудрия суть коммунистические идеи отказа от права, собственности и семьи. Агамбен мало упоминает целомудрие, но самоочевидно, что семья как элементарная ячейка накопления капитала и имущества несовместима с отказом от права и собственности, с общей жизнью. Поэтому и монашество, и коммунистические движения всегда были, что называется, «против семьи».
Отказ от права, собственности и семьи, проект утопии свободы-равенства-братства, общности-любви вместе с непременным парадоксом перепада в тоталитаризм — вот что родилось в Новом Завете, обкатывалось в монашестве и определяет судьбу Запада, христианского человечества.
Показать нам это, показать политическую, социальную, экономическую актуальность христианского монашества, показать, как христианство в важнейших фундаментальных вещах определило современность — разве это не прекрасный подарок нам всем: и христианам, и не христианам, от понимания которых все это ускользает, — разве это, повторю, не прекрасный подарок от современной философии в лице Агамбена?




